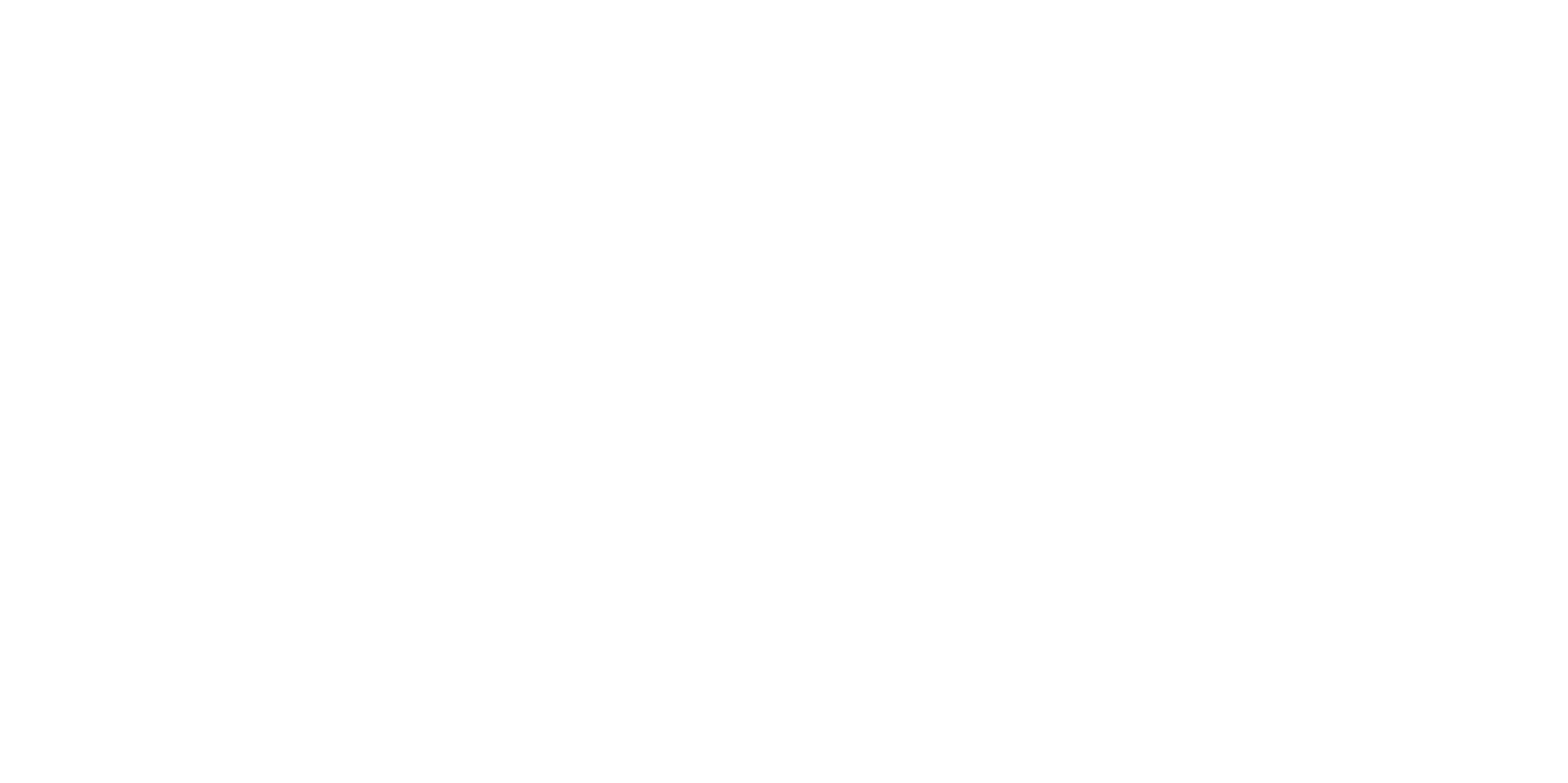| Апокалипсис еще не сегодня Алексей Гусев о «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы 23 марта 2024 |
Однажды Франсуа Трюффо заявил: «Абель Ганс — великий режиссер, который не поставил ни одного хорошего фильма». Всех, кто хоть что-то знает про Ганса, эта фраза не может не покоробить. Но Трюффо был молод, очень молод; он еще не был режиссером, он тогда и в кинокритику-то только недавно попал — и с восторгом выгрался в концепцию «авторского кино», разработанную его учителем Андре Базеном и полную самых удивительных парадоксов, и, будучи самым юным в редакции, пользовался всеобщей любовью, и каких только пылкостей себе не позволял, пока постепенно изживал природную хамоватость, маскируя ее под интеллектуальный эпатаж. В той его эскападе смысл, безусловно, был, — особенно если взять ее как принцип: мол, гений автора может быть безусловен сам по себе и при этом приводить к досадным, смехотворнейшим дефектам в его фильмах; и взятый для примера Ганс здесь уместен уже хотя бы потому, что чудовищные провалы вкуса в его фильмах и впрямь возмещались и оправдывались лишь чистой, полубезумной, космической энергией авторского гения. К тому же надо принять во внимание, что ко времени Трюффо Ганс уже был в возрасте и ощутимо выдохся, а многих из его ранних фильмов Трюффо попросту не видел, хоть и был завсегдатаем Синематеки. И, например, не мог он видеть легендарного гансовского «Наполеона», семичасового и с проекцией на три экрана, разве что куцыми фрагментами, — кабы видел, небось, все же и в молодом пылу не ляпнул бы такое. Но первая реставрация «Наполеона» (сейчас их уже три) была сделана много позже, за три года до смерти Трюффо, когда за эту непомерную задачу взялся, выступив продюсером, Фрэнсис Форд Коппола… И да, этот текст совсем не про Трюффо и очень мало про Ганса. Но не существует способа писать о «Мегалополисе», не вникнув в конкретный смысл слова «великий». К тому же «Мегалополис», конечно, поставил автор «Крестных отцов», отчасти — автор «От всего сердца» и «Радуги Файниана», и еще чуть-чуть — автор «Разговора» и «Апокалипсиса». Но в куда большей степени его поставил продюсер реставрации «Наполеона».
Речь не о влиянии и уж тем паче не о цитировании (здесь есть и то, и другое, но об этом чуть позже). Речь о масштабе. «Наполеон» Абеля Ганса, как к нему ни относись, из тех свершений в истории искусств, которые могут восхищать или раздражать, быть близки или далеки; но одну задачу по отношению к будущим кинематографистам они выполняют неукоснительно: они вдохновляют на величие. Они предъявляют его возможность. Они, если перефразировать один из исторических анекдотов о Наполеоне, «раздвигают пределы славы». Они показывают, что ничто на территории искусства — ни вкус, ни опыт, ни возраст, ни профессиональные критерии, ни здравый смысл: ничто — не ставит предела амбициям и устремлениям художника. Величие, учат они, — не столько в совершенстве результата, сколько в дерзновении замысла. Величие — в том, чтобы все объять, все вобрать, все сплавить воедино — и тем все превзойти (или, как бы сказал Ницше, «преодолеть»). Отменить разграничения, выйти за пределы; воспарить над миром явлений в подлинность мира чистых идей. Да, результат вряд ли окажется конгениален замыслу, но кто ж в мире искусства не Икар; все падают, все однажды рушатся с намеченных вершин, и, известное дело, уж лучше так, чем от водки и от простуд. И как ни мало, с точки зрения сугубого киноведения, в «Мегалополисе» от гансовской поэтики, — вирусом амбиции, безмерной и безрассудной, они заражены на равных. Той амбиции, что почитает возглашенное вещее слово художника верховной силой в мироздании.
© Экспонента Фильм
Вот почему о таких фильмах, как «Мегалополис», наш брат кинокритик (тот, что поумнее) привык ворчать, что тут нужна не рецензия, а диссертация, и вот почему для «Мегалополиса» и целого вороха диссертаций недостаточно. Тотальность его амбиции есть тотальность утопии, которой одновременно является и жанр фильма, и фильм таковой. В том-то и главная трудность: сверхмасштаб замысла неизбежно ведет за собой, наукообразно выражаясь, эффект «метарефлексии», при котором любое утверждение, касающееся содержания фильма, автоматически оказывается справедливо по отношению к самому фильму. И в истории главного героя, инженера и визионера Цезаря Катилины, и в экранном мире, где «итало-американец» Коппола поверяет закат Американской империи закатом Римской (вплоть до заката имитации Римской империи — с повешением дуче), каждый элемент оказывается нужен ровно постольку, поскольку он необходим самому автору, инженеру и визионеру, для конструирования его сверхфильма. Как и положено автору, наколдовывающему свой opus magnum (попросту — пишущему свое творческое завещание), Коппола фокусирует в «Мегалополисе» все свое, десятилетиями нажитое, понимание того, что есть мир, что есть власть, что есть творческая воля, паче же того — что есть кино. Цитаты, от текстуальных до стилистических, здесь не пучками лежат — гроздьями висят, и, кажется, нет ни одной эпохи во всей истории кино, которая не приняла бы осязаемое участие в опусе этого завзятого, подлиннее некуда, синефила. За эту самую «всю историю кино», пожалуй, не наберется и десятка фильмов, которые можно было бы поставить рядом с «Мегалополисом» по всеохватности художественных средств. Вольнó было зрителям, да и критикам, издеваться над высокопарностью текста, звучащего в фильме: иной мерой общности всю эту разноголосицу стилей и не объединишь, текст тут просто вынужден существовать на той высоте, с которой разграничения между культурными кодами и полями — вроде бы совсем несовместимыми и чуждыми друг другу донельзя — оказываются лишь искусственными межами. Ланг и Ганс 20-х, Хоукс и Де Милль 30-х, Де Сика и нуар 40-х (каждая из этих «пар», замечу, тоже конфликтна) — и так далее до 2000-х: Коппола не упускает ничего, ибо если его герой собирается перезапустить заново саму Историю, то, значит, к свершению должна прийти (точнее, на свершение должна быть обречена) вся предыдущая, без изъятий, сведясь в единое повествование. И вне этого утопизма замысла, в котором главный герой представляет собой сплав — приблизительно — из Фауста, Говарда Рорка и хакера Нео, только еще и в шекспировский рост, любой разговор о «Мегалополисе» обречен на беспредметность; ибо подлинным предметом здесь являются идеи, обнаруживаемые автором как прообразы явлений, сформировавших кино и его историю в целом, которые, в свою очередь, Коппола (как и положено любому мало-мальски сведущему в своем ремесле кинематографисту) видит как аналитическую хронику цивилизации. Все это, собственно, и означает, коротко говоря, что «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы — великий фильм: не в порядке оценочного суждения, а по предпринятой автором логике устройства.
И все это, увы, совсем не означает, что это хороший фильм.
Да что там. У Копполы не получилось почти ничего. Даже, пожалуй, ничегошеньки.
© Экспонента Фильм
Не сплав, но толкотня. «Коды» и «стили» налетают друг на друга с размаху, споря и переругиваясь. Режиссерские приемы балансируют на грани фола и оборачиваются трюками, и в рамках такого замысла это бы и правильно, — но это, если вглядеться, не столько инженерные трюки-прозрения главного героя, величественные и надвременные, сколько те, что родом из здешнего Колизея, обиталища его антагонистов, — ошеломительные, но суетные. Мизансцены выстроены даже не поперек — вне драматургии, и та то и дело принимается буксовать на месте, прорежая монтаж единообразными актерскими реакциями. (Причем и реакции-то эти — для каждого из актеров, а среди них здесь немало именитых — что называется, «из подбора», самые простые, первые попавшиеся; полноте, что можно сказать о фильме, который, среди прочего, имеет претензию на предъявление сложного человеческого устройства, если в нем единственным актером, сколько-нибудь подтверждающим название актера, оказывается, вы не поверите, Шайя Лабеф?) Можно было бы, конечно, поддаться худшему, пошлейшему из грехов и найти объяснение дефектам фильма в возрасте автора, — но в том и дело, что иные из сцен ни малейших следов творческой усталости не несут, и, например, кадр со статуей, которая под дождем разваливается от усталости и прислоняется к стенке отдохнуть, или даже целиком монтажная фраза о смерти жены, о какой бы то ни было «дряхлости» авторского вúдения говорить решительно не позволяют. Но это если по отдельности.
Никакие мечущиеся по стенам небоскребов тени (поразительные), никакие отсылки к Хичкоку, Видору или Феллини (умные), никакой взятый в интеллектуальные покровители Эмерсон (интеллектуальный), никакая, наконец, работа с экраном-триптихом на правах оммажа гансовскому «Наполеону» (честная) не в состоянии придать хотя бы тень цельности тому авторскому взгляду, который претендует обнаружить цельность увиденного им мира — и прозреть его грядущее. Автор словно мечется по бескрайнему полю кинематографа, которое он вроде бы знает вдоль и поперек, и силится свернуть его, словно скатерть, и сплести в один тугой узел, — а тот развязывается, содержимое просыпается, чаемый сплав из алхимического тигля оборачивается дизайнерским слайд-шоу, хвост увязает, нос и вовсе садится в дилижанс и хочет уехать в Ригу… Любой из нескольких десятков ходов, сделанных Копполой в «Мегалополисе», мог бы стать основой для хорошего сложного фильма; материала в «Мегалополисе» хватило бы фильмов на тридцать. А вот на один не хватило. (Достаточно вспомнить, как подобный же оммаж гансовским триптихам учинил фон Триер в «Нимфоманке» — и тот позволил автору именно что сплавить воедино Баха с Гете, превратив вопрос о «поэзии и природе» в вопрос о «конструкции и документе».) Элементы фильма Копполы мешают друг другу, блокируют друг друга, не дают прорасти, не могут привиться, — и то, что должно было стать слаженным хором, обернулось какофонией. Обидно, несправедливо, неправильно приписывать умному и очень настоящему Копполе позерское щегольство — но оно здесь есть, им здесь прямо-таки разит, просто оно не заложено, а выработано, оно — эффект, который производит вся эта мешанина, где соседние элементы не чиркают друг о друга, высекая смысл, а притушивают блеск друг друга своим собственным, и блекнут, и пыжатся, и галдят, и тускнеют, выдыхаясь, как седой мопассановский повеса под приросшей маской юнца.
© Экспонента Фильм
Жанр утопии — максимальная ставка в любом искусстве: здесь идеал не просто предъявляется, но утверждается. Антиутопии проще, даже безответственнее, зло любит выдавать свою зрелищность за убедительность. Коппола же решился впрямую предъявить светлый образ будущего — в ту самую эпоху, заметим, когда сама возможность такого образа стала такой сомнительной, какой давно уже не была. И можно бы, конечно, попенять автору, давно пережившему пору своего величия (а она ведь у него была, пусть и недолгая), на то, каким жалким, цветастым и дешевым балаганом обернулся к финалу этот заветный идеал. Но это, пожалуй, тоже было бы — не только обидно, но и несправедливо. Как писал Камю, «в крушении мира больше мерзости, чем грандиозности». И, в конце концов, если финал «Мегалополиса» так плачевно беспомощен, если даже Копполе, автору фильма под названием «Апокалипсис сегодня», не удалось собрать воедино всю предыдущую историю цивилизации — значит, она еще не завершена. И следующая эпоха будет достигнута не великим сверхусилием сверхчеловека (будь то Цезарь, Христос или полковник Курц), разом отменившим все бывшее прежде, — но, как обычно, разнонаправленной суммой тщетных усилий людей невеликих. Это, конечно, не значит, что она не обернется балаганом — о, еще как обернется. Но у него будет одно неоспоримое преимущество перед утопическим. Его, в свой час, будет не так жалко тоже снести.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Экспонента Фильм
Заглавная иллюстрация: © Экспонента Фильм
Читайте также: