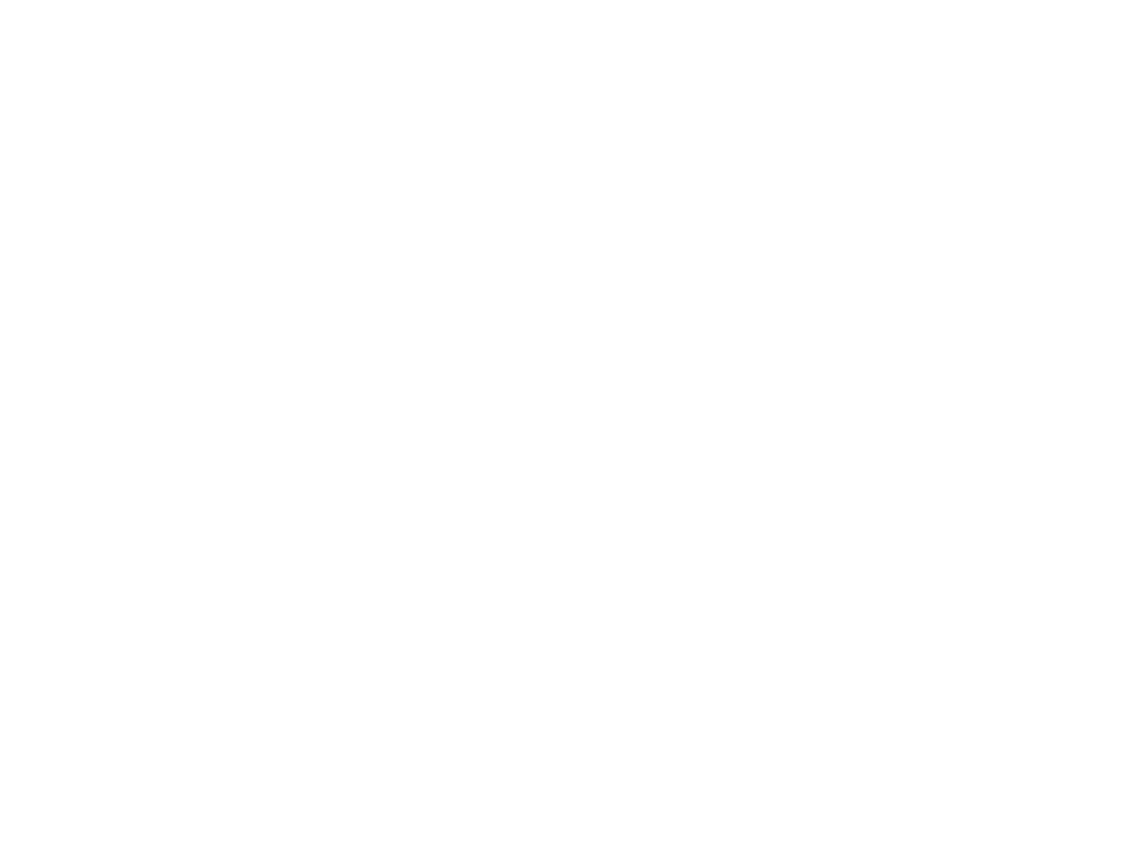Санкция на свободу Алексей Гусев к столетию Федерико Феллини 20 января 2020 |
Сегодня исполняется 100 лет Федерико Феллини — автору «Сладкой жизни», «Ночей Кабирии», «Восьми с половиной». Об одном из ключевых режиссеров ХХ века — Алексей Гусев.
На закрытии Каннского фестиваля 1960 года председатель жюри Жорж Сименон объявил, что фильмы «Девичий источник» Бергмана и «Девушка» Бунюэля не получат призов, ибо они — «выше всех фестивальных оценок». Золотая пальмовая ветвь была тогда вручена фильму Федерико Феллини «Сладкая жизнь».
Три года спустя, незадолго до закрытия Московского фестиваля 1963 года, Никиту Хрущева оповестили, что на Главный приз идет какой-то модернистский итальянский фильм — «Восемь с половиной». Привезли копию генсеку на дачу, запустили пленку. Минут через двадцать раздался богатырский храп хозяина. Разбудить его никто не решился. Когда фильм закончился, Хрущев проснулся и резюмировал: «Хороший фильм. Советский рабочий может на нем выспаться после трудового дня». И приз вручили «Восьми с половиной».
Они оба были правы: и Сименон, и Хрущев. И даже, не ведая того, имели в виду примерно одно и то же.
Скажем, «Девичий источник» Бергмана — великий, конечно, фильм, но он еще и больше, чем фильм; он — про шанс на присутствие Бога. И «Девушка» Бунюэля — тоже больше, чем фильм; она — про возможность души в мире, утратившем иллюзию связности. Глупо и бездарно задаваться вопросом — кто, мол, «выше», Бергман или Феллини, и решение того каннского жюри — не об этом. Просто для Бергмана кино — инструмент описания человека, Бога и мира. Для Феллини же — того, по крайней мере, что как раз со «Сладкой жизни» и начался — оно не инструмент, но предмет описания. И описывает оно лишь само себя. В «Восьми с половиной» — создавая само себя на глазах у зрителей по ходу фильма, сцену за сценой, кадр за кадром. Ни один фильм Феллини не больше, чем фильм; кинематограф Феллини — и есть кинематограф как таковой. Вереница сцепившихся друг с другом образов, крутящаяся по кругу, который в будке киномеханика был катушкой с пленкой, а на экране воплотился в цирковую арену. Мелькание теней и масок, запечатленная в целлулоиде греза. На этих фильмах спишь, даже когда смотришь их. Можно, конечно, сказать, что это — чужие сны. Но ведь все сны — чужие. Не мы же их себе показываем.
Федерико Феллини и Анита Экберг на съемках фильма
«Сладкая жизнь» , Рим, 1960 год. Фото: Fotogramma
«Сладкая жизнь» , Рим, 1960 год. Фото: Fotogramma
Федерико Феллини сегодня 100 лет, из них он прожил чуть меньше 74-х, поставил за это время 20 полнометражных фильмов общим метражом в 39 часов 45 минут, и все эти цифры выглядят так странно, так не вяжутся с его именем. Оно, имя это, давно уже стало иконой и клише, оно означает тип — искусства, образа, автора, — а не конкретного режиссера с фильмографией, методами и конкретикой художественных решений. Есть феллиниевский гротеск, феллиниевский карнавал, феллиниевские персонажи — и феллиниевская свобода творчества, и что все это означает, пусть приблизительно, внятно даже тем, кто никогда не интересовался итальянским авторским кинематографом 1950-80-х гг., да и не слыхивал о таком важном культурном явлении. Феллини — вероятно, не самый «любимый» режиссер в истории кино, будь то зрителями или коллегами: и для тех, и для других он слишком уж является только самим собой. Первые могут посмотреть «Похитителей велосипедов» или, наоборот, «Титаник», нимало не задаваясь вопросом о том, кто такие Де Сика и Кэмерон, чем еще они славны и что их отличает от всех тех остальных, кто не Де Сика и не Кэмерон. Вторые могут посмотреть «Гражданина Кейна» или «Крестного отца» и перенять внимание к детали, ракурсу и мизансцене, оставшись при этом чужды эстетике Уэллса или Копполы. Но нельзя получить удовольствие от фильма Феллини, кроме как приобщившись к миру Феллини: такому другому, такому не своему. Нельзя чему-то научиться у фильма Феллини и не стать при этом немножко Феллини самому. Он слишком автономен, слишком сам по себе. Его имя — слишком собственное.
И если оно стало нарицательным, то именно поэтому.
Оно позволяет всем нам оставаться собой.
Зрителям — своей демонстративной незаинтересованностью в них. Вызывающей, подчас высокомерной, иногда чуть не отталкивающей, всегда — соблазнительной. Подобно героям Мастроянни — в «Сладкой жизни», «Восьми с половиной» и особенно в «Городе женщин» — ты можешь присутствовать в экранном мире феллиниевских образов сторонним свидетелем, гулякой праздным, не смешиваясь с ним, не вступая в интимную связь: безопасно и расслабленно. Что бы ни случилось, это ведь просто сон. Пряный, постыдный, жутковатый.
Коллегам же — поданным примером: грядущим поколениям кинематографистов, попросту говоря, Федерико Феллини выдал бессрочный карт-бланш. Пытаясь чему-то научиться у любого снятого им фильма, любого снятого им кадра, ты неизбежно немножко станешь им; но его творчество в целом, самой возможностью своего существования, учит как раз не становиться им — вообще никем, кроме самого себя. Тем, что Феллини такой «особенный», такой «единственный», он дал право быть особенным и единственным каждому, кому только достанет для этого отваги и дерзости. Фильм «Восемь с половиной» стал солнечным сплетением кинематографа Феллини постольку, поскольку словно бы снимал сам себя, вне режиссерских указок и планов: он тоже обрел свободу быть собой, свободу — даже от собственного автора, ибо ей от него и научился. И когда с тех пор о каком-либо фильме говорят: он, мол, для своего режиссера стал его «Восемью с половиной», — будь то «Воспоминания о звездной пыли» Вуди Аллена, эпилог к «Берлин-Александерплац» Фассбиндера или «Внутренняя империя» Дэвида Линча, — это отнюдь не означает, что у этого фильма есть хоть что-то общее с феллиниевским шедевром. Это означает, что у этого фильма нет ничего общего вообще ни с чем и ни с кем, кроме самого себя. Это ведь просто сон. Ему никто не указ.
Марчелло Мастроянни. Кадр из фильма
«Восемь с половиной». Фото: BFI
«Восемь с половиной». Фото: BFI
…Не будем поддаваться юбилейной горячке и идти вослед за штампами. Федерико Феллини — не первейший и не величайший, и в 125-летней истории кино сыщется не менее полусотни режиссеров калибром не ниже. Его безупречное пластическое видение не лишено монотонности, его парадам-алле порой ощутимо недостает вкуса и такта; быть всегда одним лишь собой, добровольно запереться в собственной идентичности, — участь, что уж там, не из самых завидных. Свобода стоит дорого, а синьор Феллини, похоже, еще и на чай оставил. Но если все эти оговорки кажутся обидными и неуместными, если имя Феллини остается, к удивлению и неудовольствию иных строгих блюстителей, базовым достоянием массовых представлений о кино, если его продолжают поминать всуе, стоит лишь речи зайти об авторстве, — то это потому, видимо, что преподанный его кинематографом урок свободы — от всего и вся, кроме самого себя, — все еще почитается высшей ценностью. И мы все еще полагаем, что бы мы ни думали и ни утверждали, что мир и кино друг другу ничем не обязаны и ничего не должны. Неизвестно, конечно, сколько и чем еще мы будем готовы платить за эту вызывающую идею. Но пока нам хватает феллиниевских чаевых.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: BFI
Заглавная иллюстрация: BFI
Читайте также: