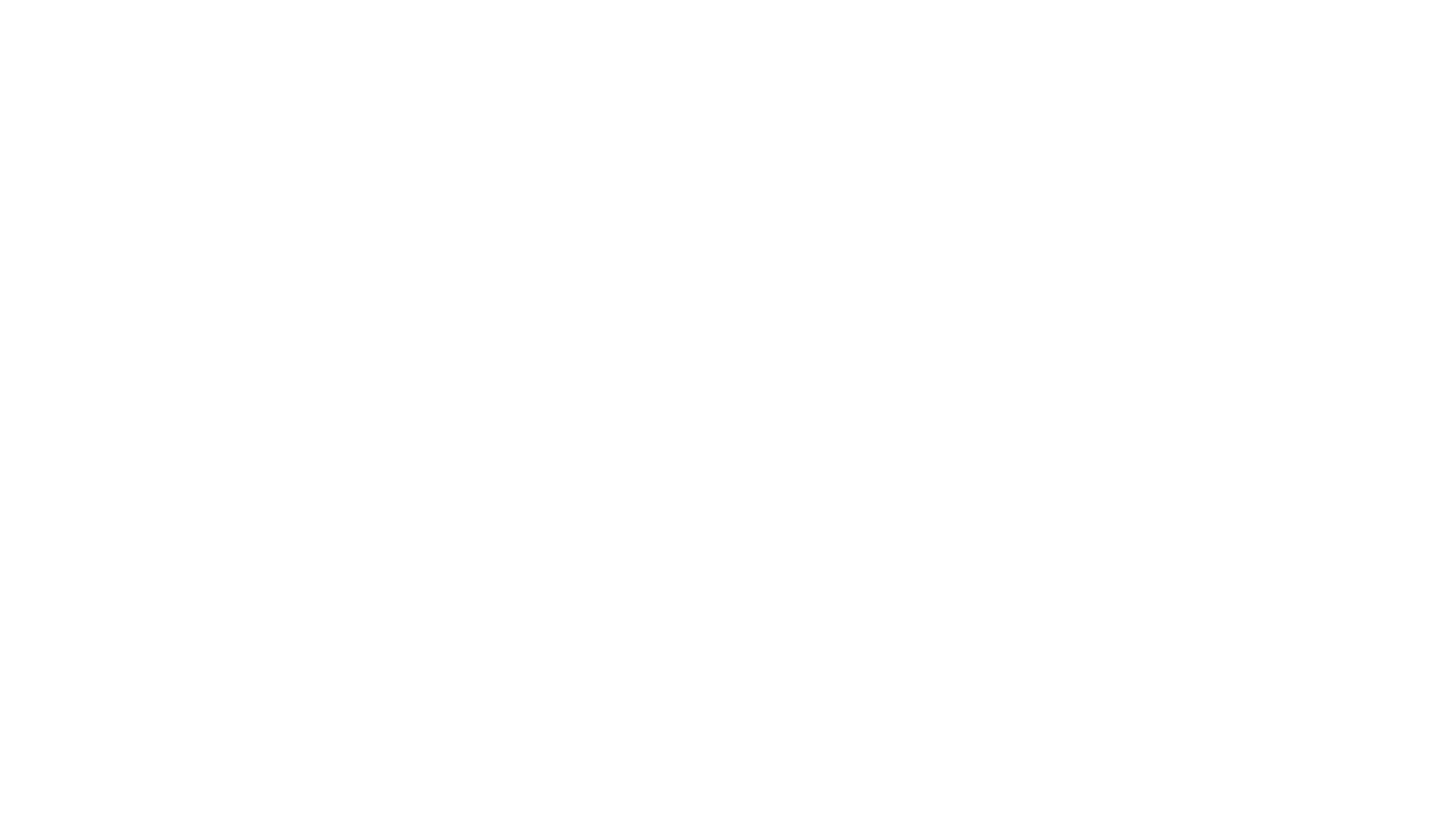Обо всех умывающих руки Алексей Гусев об «Анатомии падения» Жюстины Трие 19 ноября 2023 |
Однажды в погожий зимний день, где-то в горах на юге Франции, полуслепой мальчик вышел прогуляться со своей собакой, а когда час спустя вернулся, то обнаружил папу у дверей дома окровавленным и мертвым, — не то выбросился из окна, покончив с собой, не то мама его в пылу ссоры хватила по голове; так что же произошло на самом деле? Именно поискам ответа на этот вопрос и посвящен фильм Жюстины Трие «Анатомия падения». И можно было бы ожидать, — учитывая давнюю, еще к немой эпохе восходящую, полную блестящих свершений и триумфов, традицию французской судебной драмы, в которой главным шедевром стал когда-то и остается поныне фильм Клузо «Истина», — что зал судебных заседаний, где происходит бóльшая часть действия, окажется территорией установления истины. Или же, если земной суд будет признан автором некомпетентным (как это нередко бывало), — что такой территорией, в пику людям в мантиях, окажется сам фильм Трие: камера, мизансцена, сюжетосложение. Но «Анатомия падения» минувшей весной получила на Лазурном берегу Каннскую Золотую пальмовую ветвь. А у тех, кому дана власть выносить вердикты, ныне вновь в обычае и в чести полное просвещенного скепсиса вопрошание: «Что есть истина?». Насколько кровав подбой у этого обычая, пусть судят политологи; насколько вердикт суда в фильме предопределил вердикт фестивального жюри, — культурологи. Здесь же, в этом тексте, судят лишь сам фильм. Причем по старинке: полагая, что истина есть и что она важна.
©ПРОвзгляд
Самое главное (и, пожалуй, самое проблемное) в фильме Трие — что он умный. Не по видимости, а по существу. И его устройство, и его каннская победа — внятное свидетельство того, что, несмотря ни на что, интеллектуализм по-прежнему остается во Франции тем ферментом, который обеспечивает самобытность (она же идентичность) ее культуры. Практически говоря, речь здесь о специфическом умении, находясь в любой точке любой истории, — самой лиричной, самой частной, состоящей, казалось бы, сплошь из тонких обертонов эмоций и реакций, — апеллировать к тем общим умозрительным категориям, что составляли предмет заочных дискуссий Паскаля с Монтенем и очных — Дидро с д’Аламбером. Этим национальным умением Жюстина Трие, каков бы ни был ее личный образовательный бэкграунд, наделена сполна. Плевый, в общем-то сюжет, — это она его или это он сам, — от которого Пуаро заскучал бы через пару минут и который у Трие разворачивается два с половиной часа, разрабатывает не только положенные современному фестивальному кино темы вины, фрустрации и мужских претензий, но и вопросы о границах между интерпретацией и знанием, между воображением и памятью, между материалом и текстом. И именно что не «затрагивает», но «разрабатывает», — не потому что «к слову пришлись», а потому что речь как раз о них. Наконец, что совсем уж хорошо, умен тут именно фильм, а не один лишь его сценарий, получивший абы какое экранное воплощение (как это бывает ужасающе часто в современном кино), — нет: и движение камеры, и монтаж ракурсов, и работа со звуком в каждом отдельном случае продуманны, в большинстве случаев — точны, во многих — остроумны. Как и должно быть в настоящем кино, сценарий здесь — лишь отправная точка для режиссерской мысли, а не жаждущий репрезентации диктатор.
В этом месте проще всего было бы констатировать, что как ни умны по отдельности режиссерские (да и сценарные) решения Трие, они слишком часто плохо стыкуются между собой; проще всего — уже хотя бы потому, что так и есть. Есть, например, движение камеры на уровне собаки, поводыря мальчика, введенное в начале фильма, — и это сам по себе хороший прием, с большими и сложными последствиями: речи в суде вокруг мальчика тоже будут сопровождаться переменой ракурсов съемки (он растерялся и не знает, кому доверять и кто ему в этой ситуации поводырь), пока он не решится дать показания сам — и тем нарушит привычный регламент, и растеряется, дрогнув, уже камера, а значит — он выйдет в главные герои и обретет субъектность. Красиво, внятно, связно. Но вот его мама, обвиняемая, рассказывает, как полгода назад муж уже пытался покончить с собой, приняв упаковку таблеток, которую она нашла пустой в мусорном ведре, — и камера, визуализируя ее рассказ, на том же «собачьем» уровне скользит к ведру. Это даже не то чтобы «пустая эффектность»; вопрос о том, съела ли собака те таблетки, тоже будет важен для сюжета и станет для сына порукой, что мама тот случай не придумала, — хотя он решит, что собака съела их не из ведра. Так каким образом показания матери стыкуются со способом съемки? Они с ним не совпадают, они ему и не противоречат, — они вкупе с ним создают серую зону неопределенности, у которой нет, сколько ни ищи, сюжетной функции.
©ПРОвзгляд
Или другой пример, поважнее. В решающий момент суда и фильма сын дает показания о том, как несколько месяцев назад папа прозрачно намекал ему на свое желание покончить с жизнью. В кадре — субъективный флэшбек, отец наклоняется к камере-сыну, и, пересказывая монолог отца в суде, сын фактически озвучивает его речь, подменяя его голос своим. Это уже не просто красиво — это, прямо сказать, блестяще. Есть лишь три проблемы. Во-первых, для фильма чрезвычайно важно, что сын полуслеп, — и очень, очень странно, что ни в этом эпизоде, ни в каком другом субъективная камера не воспроизводит его зрение как дефектное или хотя бы как «особенное»; так что если то, что мы видим, это то, как видел он, то, господа судьи, у этого мальчика со зрением все в порядке. Во-вторых, большинство эпизодов, которые до того были показаны субъективным взглядом мальчика, — это не те, которые он видел, но те, которые он воображает, когда слушает показания в суде, то есть — увиденные его фантазией; и если суд, по-видимому, склонен верить его рассказу (он-то тех фантазийных видений не видел), то зрителям фильма как раз не стоило бы, они цену (статус) этих его видений знают. И в-третьих, прокурор имеет в виду примерно это, когда после рассказа мальчика предупреждает присяжных о сугубой «субъективности» услышанного, — но делает это неуверенно, почти мямля, словно понимая, что теперь его дело проиграно. Хотя получасом раньше он сам вдохновенно зачитывал фрагменты из книги, написанной обвиняемой, где героиня задумывала убийство мужа. И да, мы во французском суде, а не в британском или американском, где благодаря десятилетию процветания юридических сериалов уже так и ждем восклицания «Показания с чужих слов, Ваша Честь!», — но вопрос-то от того стоит лишь острее: насколько показания с чужих слов являются территорией фантазии, где сын может озвучить отца, а писательница — свою героиню?
На самом деле именно этот вопрос является ключевым для всего фильма. В самой виртуозной по построению сцене муж ссорится с женой, упрекая ее в краже идеи его ненаписанного романа для ее написанного (она — состоявшаяся писательница, он — несостоявшийся), но когда запись этой ссоры звучит на суде, обвиняемая предполагает, что он специально под запись спровоцировал ее на ссору, чтобы потом эту запись использовать как реальный материал для своей новой книги, — а использовать реальные коллизии как материал для книги он, в свою очередь, научился у жены, которая именно так свои бестселлеры и пишет. И здесь можно бы разбежаться по тропкам аллюзий, даже не выходя за пределы современной французской культуры, — от «Основано на реальных событиях» Поланского, где писательницу соблазняет начать основываться на реальном материале злой демон-двойник, до «Правды о деле Гарри Квеберта» Жоэля Диккера (не путать с худосочной сериальной экранизацией), бестселлера с — не в пример фильму Трие — лихо закрученной детективной интригой. Однако дело в том, что если режиссерские решения Трие так плохо между собой стыкуются, то это, возможно, не по недосмотру или неумелости. А потому, что четкость конструкции позволила бы выяснить истину. Ставя судебную драму, Жюстина Трие пытается избежать именно этого. Последовательно, от начала до конца, всеми силами. И у нее все получается.
©ПРОвзгляд
«Мне надо притвориться, будто я уверен?» — растерянно спрашивает мальчик свою попечительницу, вконец запутавшись в судебных перипетиях. — «Нет, — отвечает та, — я говорю: прими решение». Мальчику не дано узнать, убила его мама его папу или это он сам; зато автором ему дана власть (она же обязанность) принять решение — что из этого произошло, и фильм его решению послушно подчинится. Самое неверное в фильме Трие — название: какая уж тут «анатомия», область до жути методичная, если единственная улика в процессе — три капли крови на стене сарая — будут обговорены в самом начале и, ни к чему не приведя, благополучно забыты. «Я могу себе представить, что папа покончил с собой, и не могу — что его убила мама»: вот довод, который суд и авторы фильма сочтут за решающий. Впрочем, даже тут все не наверняка; тем временем досужий журналист по телевизору вещает «нам легче поверить, что писательница убила мужа как в книге, чем что учитель покончил с собой». И с чего бы решение ребенка (который и ведать не ведал, что у родителей нелады) было весомее, чем воображение журналиста? И тоже — ни с чего. Даже этой, сентиментальной, уверенности Трие гарантировать не собирается. Нет ни истины, ни лжи, и мальчик (это в кино-то) ни слеп, ни зряч, — травмирован, на глазах бельма, в соцсетях сидеть может, интерьер дома определяет на ощупь, — и именно ему доверено проводить границу и принимать решение. А следом за ним — суду, а следом — каннскому жюри. «Что есть истина? — Да сам решай». И тьма приходит со Средиземного моря и накрывает Лазурный берег.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: ©ПРОвзгляд
Заглавная иллюстрация: ©ПРОвзгляд
Читайте также: