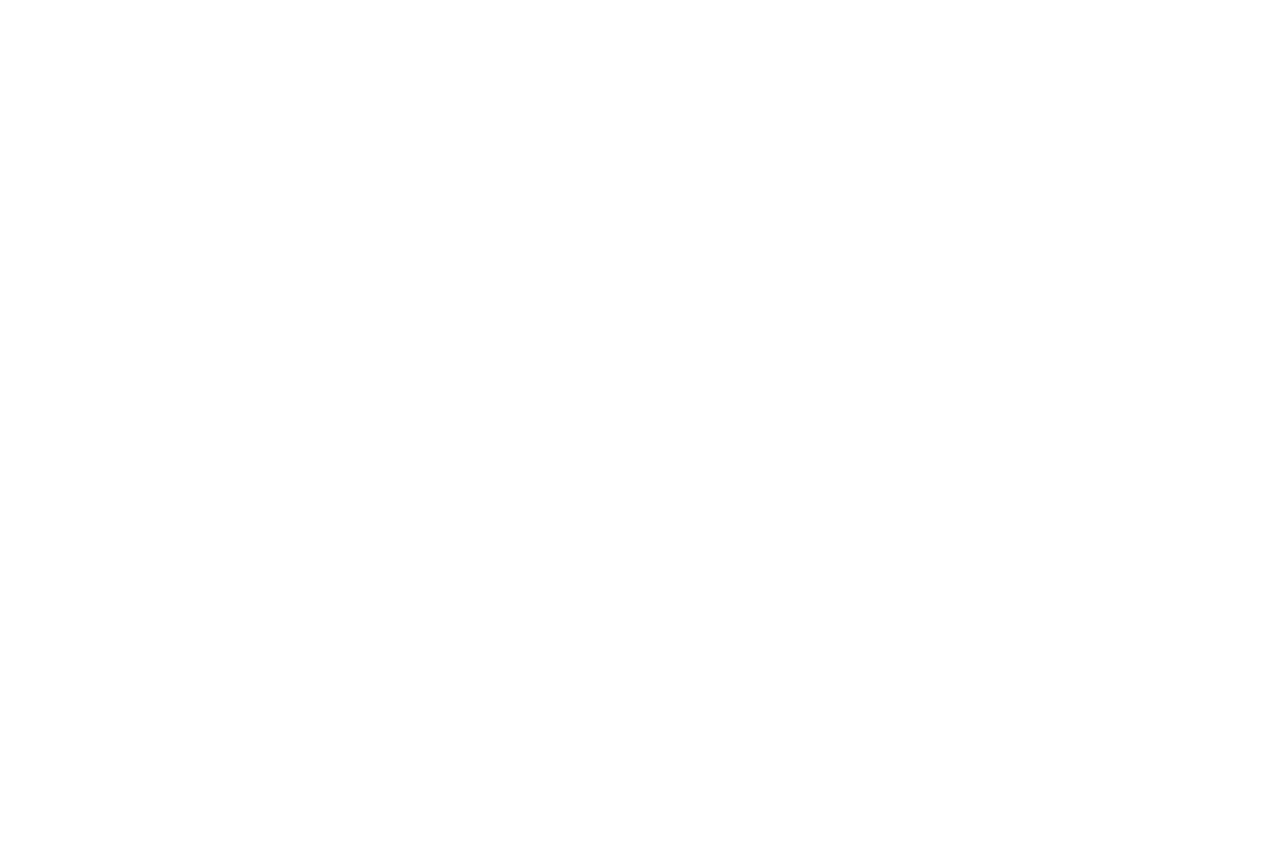Любовь издалека Балеты Алексея Ратманского в Мюнхене и Милане 7 февраля 2024 |
Сезон 2023/2024 проходит на европейской балетной сцене под знаком Алексея Ратманского: миланский театр Ла Скала только что показал премьеру «Коппелии» Лео Делиба, Баварский балет транслирует из Мюнхена «Увертюры Чайковского». О новых спектаклях самого известного в мире российского хореографа, не работающего в России — Богдан Королёк.
Последним рабочим днем Ратманского в Москве стало 21 февраля 2022 года, за неделю до назначенной премьеры балета «Искусство фуги» в Большом театре. Хореографа, столь любимого отечественной публикой, пока не приходится ждать в гости, остается ловить голоса в эфире. До российских мониторов подряд добрались две большие работы, а в них — два разных Ратманских в одном лице: современный художник и почитатель старины, всеоружный мастер и растерянный слушатель, опытный рассказчик и любитель умолчаний.
В Милане Ратманский, кроме авторского вечера, ставил реконструкции «Спящей красавицы» и «Лебединого озера», пользуясь танцевальной нотацией петербургского Императорского балета, но игнорируя исторический визуальный контекст. Теперь он не стал соревноваться с покойным Сергеем Вихаревым, который по тем же нотациям в 2009 году сделал образцовую реставрацию «Коппелии» в Большом. Ратманский справедливо рассудил, что музыка Лео Делиба слишком крепко спаяна с сюжетом. Он оставил в целости партитуру и синопсис 1870 года, который относит действие в Галицию и только номинально связан с новеллами Гофмана. В «Коппелии» нет немецкой мистики — лишь кокетливое французское заигрывание с ней, затанцовывание ужаса канканом, пир накануне чумы: «Коппелию» в Париже впервые давали за два месяца до начала Франко-прусской войны.
Коллизии старые, но режиссура и тип актерского существования — современные, раскованные, с грамотным мизансценированием и позабытым в Европе чувством юмора. (Игровые сцены, снятые крупным планом, выглядят пособием для российских авторов, снова поставленных временем перед необходимостью сочинять хореографические повести и романы.) «Коппелия» — это комедия про двух влюбленных и одного фрика, и миланские звезды подхватили игровой драйв, предложенный хореографом. Франц любит Сванильду, всерьез любит сидящую на балконе куклу Коппелию, а больше всех любит самого себя, и Тимофей Андрияшенко так настаивает на образе деревенского краша-раздолбая, что это начинает мешать чистоте танца, начиненного каверзными мелочами. Николетта Манни в партии бойкой Сванильды живее и сложнее своего партнера, она задает тон всему актерскому ансамблю. Странным вышел Коппелиус — Кристиан Фагетти: Эйнштейн и Франкенштейн в кожаном фартуке, то умный злодей из вселенной Marvel, то наивный и суетливый фигурант старого балета.
«Коппелия» Teatro alla Scala © Brescia e Amisano
Ратманский и его постоянный соавтор художник Жером Каплан слегка запутались, какой спектакль они ставят — классический или все-таки собственный. Сцена оформлена «под старину», но площадь в галицийском городке пластмассовая, с нарушенными ракурсами и пропорциями, а также пшеницей, растущей прямо под забором. Важные в «Коппелии» харáктерные танцы — уже не национальные пляски прошлого, но и не совсем Ратманский. То же в классических номерах: солистам даны узнаваемые длинные комбинации со свободной темперацией, чередованием мелких и крупных движений, обрывами концовок, а кордебалет многократно повторяет элементарные па, совсем как в балетах позапрошлого века. Иерархия выходов соблюдена, но массовые номера, вопреки правилам, разломаны сольными выходами героев, а танец прерывается пантомимой, где смешаны сегодняшняя бытовая пластика и допотопный условный жест. Pas dansée хореограф все время хочет превратить в pas d’action, «действенный танец», который был фундаментом балетов в эпоху до «Коппелии» — и лучше всего это удалось в аллегорических вариациях третьего акта: среди них особенно хороши «Молитва», танцевальный портрет длинноногого нарцисса Наврина Тернбулла, и «Раздор» — не только соло Ринальдо Венути, но и вся мизансцена.
Танцы Ратманского стали ритмически глаже и крупнее, он почти отказался от прелестей маньеризма — так назывался один из его первых балетов. С тех пор минула четверть века; как сказали бы в зрительном зале Большого театра, Ратманский стал классичнее. Возможно, сказался десятилетний опыт реконструкций (но как раз в них было вдоволь маньеризма), либо в скорлупе старого балета он сдерживал себя намеренно.
«Коппелия» Teatro alla Scala © Brescia e Amisano
В оригинальных «Увертюрах Чайковского» для Баварского балета автора легче узнать, но здесь он поставил парадоксальную задачу — выстроить большую форму, избежав нарратива, но все-таки придерживаясь фабулы. Он собрал три увертюры-фантазии Чайковского — «Гамлет», «Буря», «Ромео и Джульетта», к последней прибавил вокальный дуэт Ромео и Юлии (для спектакля текст перевели на немецкий), и ввел в качестве пролога Элегию для струнных. О смыслах музыки с честностью советского телеведущего в антрактах рассказывал драматург спектакля Серж Онеггер.
В афише не названы персонажи, но среди артистов нетрудно угадать Гамлета и Офелию, идентифицировать Калибана и Ариэля — а Просперо выдает лишь костюм, но не дежурные жесты балетного родителя, обращенные к Миранде. Помня тексты Шекспира, можно уловить и ход событий. Сопротивляется музыка: жанр увертюры-фантазии не предполагает последовательного изложения драмы, только перебирание образов, преувеличенных композиторским воображением. Чайковский мучительно серьезен. Ратманский мучительно соотносит строй своего танца с музыкой. Он не успевает пересказывать, и в «Гамлете» все происходит вдруг, а в «Буре» — почему-нибудь, с вынужденной одномерностью характеров. В непрерывном потоке орнаментального танца герои вдруг впадают в задумчивость, и кордебалет сочувственно жестикулирует. В «Ромео» хореограф позволяет себе другую степень абстракции, сводит фабулу до ситуации «мужчина и женщина» — и тогда становится свободным.
«Увертюры Чайковского» © Bayerisches Staatsballett
Однако главные в спектакле именно мужчины. Им отданы самые длительные и трудные соло, и в Мюнхене Ратманский нашел прекрасных соавторов: Осиэль Гунео как прото-Гамлет, Йона Акоста и Антонио Касалиньо как духи «Бури», Шейл Вагман, который начинает первый и последний акты — «от автора», меланхоличный нежный юноша, слезный дух Чайковского, перелетающий в руках кордебалета и опекающий партнеров в жанре «поэт и его герои». Его соло задает тон хореографии: мужской танец в «Увертюрах Чайковского» феминизирован (костюмы Жан-Марка Пюиссана придают ему не слишком уместный гомоэротический флер), он замедлен, лексикон мало отличим от присущего женскому танцу, линии смягчены и вытянуты. Здесь в спектакль Ратманского вползает, как туман, меланхолия. С элегической интонацией он ставил в 2012 году «Воспоминание о дорогом месте», небольшой балет, тоже на музыку Чайковского. В трех актах «Увертюр» меланхолия стала всеобъемлющей — и это новое качество стиля дорогого нам хореографа.
Текст: Богдан Королёк
Заглавная иллюстрация: «Увертюры Чайковского» © Bayerisches Staatsballett
Заглавная иллюстрация: «Увертюры Чайковского» © Bayerisches Staatsballett
Читайте также: