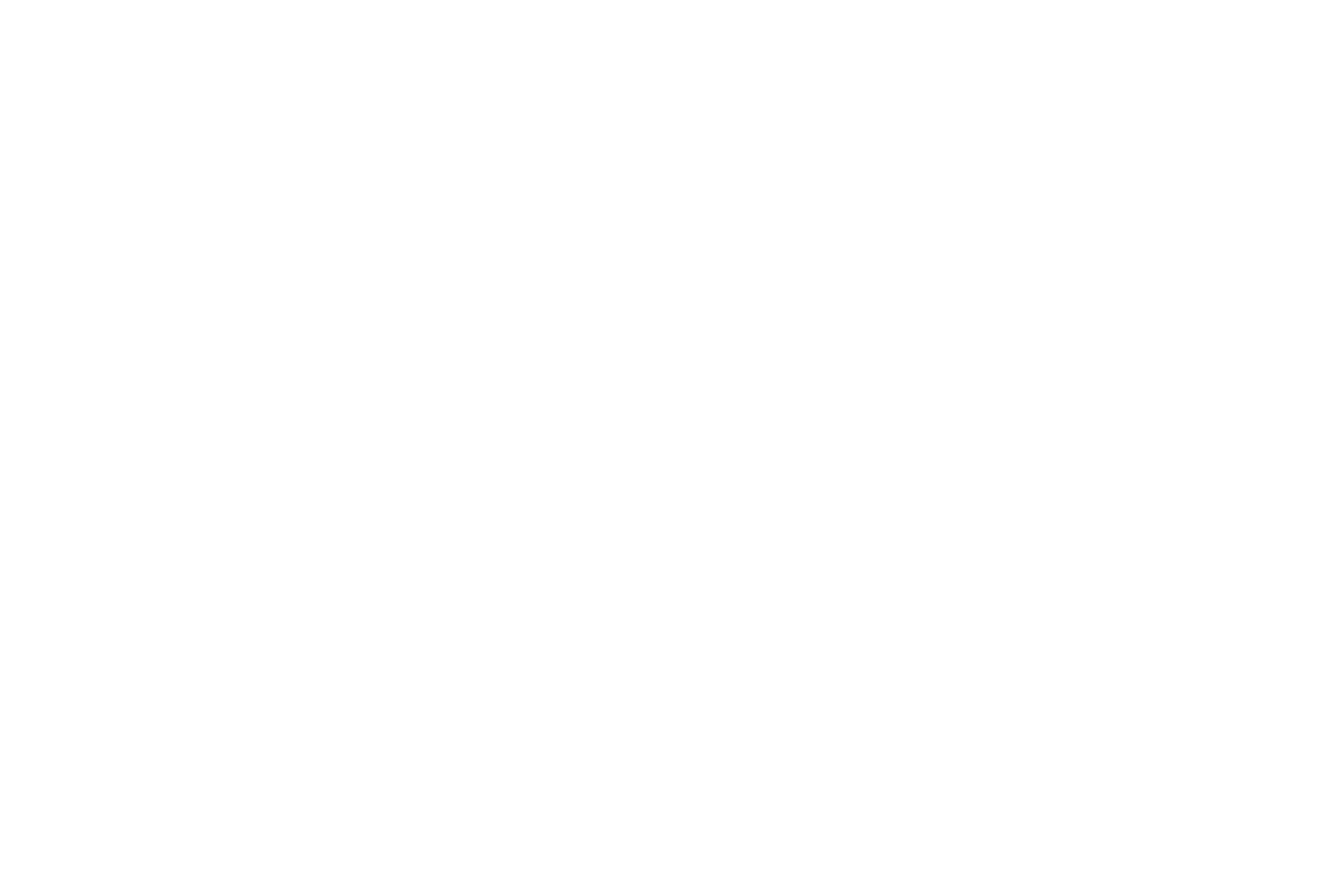Книги Калибана Лилия Шитенбург о «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса 2 марта 2024 |
В финале фильма «Книги Просперо» Питера Гринуэя мудрый волшебник, как и положено шекспировскому герою, топит свои книги в море — в знак соединения с судьбой человечества. Но прыткий Калибан ныряет в пучину, из всех чудес волшебной библиотеки успев выхватить только том пьес Великого Барда и «Бурю» отдельной книжкой. Питеру Гринуэю, Джону Гилгуду, оператору Саша Верни, композитору Майклу Найману и с тех пор иным, уже вовсе безымянным, этого было довольно. Магия нашла последний якорь в мире без чудес.
Менее известна неканоническая версия этой истории. Нырнув за тонущими книгами, Калибан без разбору вырывал расползающиеся страницы, и выплыл, сжимая в кулаке обрывки «Книги Зверей», «Книги Игр» и пару почти целых иллюстрированных листов из «Книги Гротесков». Как все это попало к Йоргосу Лантимосу (и при чем тут Эгейское море) — история умалчивает, однако очевидно, что Лантимос сделал свою фильмографию на обрывках книг Просперо и огрызках фильмов Гринуэя. Судя по всему, уцелевшие страницы были из первой трети «Книги Гротесков» — поскольку представления режиссера об этом тонком предмете роковым образом обрываются на сведениях не позднее XIX века, а базируются и вовсе на древнейшем определении гротеска как «соединения несоединимого». (Подобно тем забавным рисункам чудищ, слепленных из разных звериных черт, вроде дельфинов с львиными гривами, что были найдены в росписи итальянских гротов и дали название термину.) Неземной, фантастический (а то и метафизический), трагический, экзистенциальный характер гротеска, установленный в XX веке, связь его со смертью и вечностью, — все это, видимо, ускользнуло от посягательств Калибана.
© Yorgos Lanthimos/Searchlight Pictures
Лантимос с самого начала своего кинематографического пути был почитателем разнообразных «чудищ» и «диковинок», включая антропологические. В фильме «Клык» юные герои жили в замкнутом пространстве родного дома, наглухо отделенные от внешнего мира чрезмерно заботливыми родителями. В их мирке не было ни малейшей возможности для чуждых вторжений: под запретом было все, особенно кино (проникновение вируса в виде видеокассет с боевиками в итоге и решит дело). Для окончательной победы искусственного (то бишь, диковинного) существования требовалось к тому же отделять слова от их значений: «море» определялось как «кожаный диван с деревянными ручками», «зомби» — «маленький желтый цветок» и так далее. Таковы простейшие упражнения по «соединению несоединимого». В «Лобстере» человек, не нашедший себе пару, был обречен превратиться в животное, а напряженные поиски «второй половинки» (сентиментальный лексический штамп, чреватый гротеском сам по себе) сводились к попытке синхронизировать схожие маргинальные личностные признаки (близорукость, бессердечие, склонность к носовому кровотечению). В «Убийстве священного оленя» Лантимос устраивал очередной флегматичный аттракцион, прикручивая к «Лысой певице» Ионеско «Теорему» Пазолини, а в «Фаворитке» соединял английскую корону с кроликами. Причуды такого рода всегда нравились публике — со времен языческих козлоногих сатиров и средневековых маргиналий на полях священных книг. От гротеска (даже самого простенького) всегда на миг перехватывает дыхание — по определению немецких романтиков. У гусепесика и особенно куросвинки, выпущенных Лантимосом в интерьеры «Бедных-несчастных», не было иных вариантов, кроме как понравиться.
В «Бедных-несчастных» все начинается с Франкенштейна (как и в романе Аласдера Грэя) — и нет нужды запоминать, к кому именно относится славное имя — к доктору или чудовищу. Уиллем Дефо играет чудовище, ставшее доктором, он — квинтэссенция Франкенштейна, экспериментатор, увечный и целитель в одном лице, предлагающий называть его просто Бог (игра слов с именем Годвин — не единственный в романе оммаж Мэри Шелли, в девичестве Годвин). Сшитый из частей трупов персонаж всегда был воплощенным гротеском, а незаживающие швы на его лице сделались едва ли не символом постмодернизма, но герой Дефо идет немножко дальше, сам сделавшись «современным Прометеем». Главным его изобретением становится женщина. Почему бы и нет — в конце концов, гуся с собачкой он сшил на славу, да и самоходная карета с лошадиной головой работала превосходно.
Странное существо было обнаружено в доме Годвина Бакстера единственным вполне обычным человеком, ассистентом доктора, — молодая особа с необыкновенно длинными темными волосами, чье одеяние составлял верх от дамского платья (с пышными буфами и турнюром), а низ — дамские панталоны и ни тени юбки («соединение несоединимого» тут чрезвычайно наглядно). Леди с трудом выговаривала слова, впрочем, знала она их совсем немного, лексикон ее преимущественно состоял из коротких восклицаний, она премило крутилась на одной ноге, тащила в рот все, что приглянется, а потом недовольно отплевывалась с самым сосредоточенным видом. Досуг свой Белла Бакстер посвящала катанию на трехколесном велосипеде по дому, веселым играм с ланцетами и трупами, и беззаботно мочилась, лишь ненадолго прервав свой танец.
© Yorgos Lanthimos/Searchlight Pictures
Блистательная Эмма Стоун сразу избавляет зрителя от какого бы то ни было сочувствия «бедняжке», поскольку с первого взгляда очевидно, что этот экспонат доктора Бакстера — вовсе не несчастная женщина, чудом избежавшая Бедлама, а нормальный здоровый ребенок в нелепой оболочке. Что доктор и не преминет объяснить своему коллеге, рассказав историю молодой беременной женщины, бросившейся в Темзу, — тело мертвой матери удалось спасти, пересадив ей мозг ее нерожденного ребенка.
Белла стремительно развивается, и вот уже возраст, в котором плюются едой и писают на пол, сменяется возрастом, в котором дитя открывает возможности собственного тела. Белла изобретает мастурбацию, а камера Робби Райана и Йоргоса Лантимоса нащупывает возможности сверхкрупного плана — занимающий весь экран рот Беллы, раскрытый на букве «о», не оставляет сомнений: это главное, что произошло в фильме. Бестрепетно бросив жениха (им стал тот самый ассистент), новая невеста Франкенштейна сбегает из дома вместе со скользким адвокатом — усачом и шармером (Марк Руффало). В Лиссабоне Белла открывает для себя радости секса, изображение становится цветным (Лондон до этого был черно-белым), и континентальная Европа, украшенная всевозможными завитушками модерна, пестрит красками (особенно свежи были алые деревья на фоне снежного Парижа). Матерый адвокат и бонвиван обнаруживает в себе собственника, но если он льстил себя сознанием того, что обесчестил молодую леди, то просчитался — ничто в мире не способно лишить невинности эту превосходно сшитую длинноволосую куклу, всерьез погрузившуюся в свои исследования. В Лиссабоне Белла делает вывод, что мир состоит из устриц, пирожных и секса: «я нашла только сахар и насилие!». Ее свободу пробуют ограничить, и Белла, встретившись на корабле с занятной парой, привившей ей вкус к философии (сама Ханна Шигула подсовывает ей книжки!), оказывается в парижском борделе. Где не только с присущей ей невозмутимостью занимается сексом с клиентами, но и попутно делается социалисткой — поскольку мир и человека необходимо изменить к лучшему. Завершив таким образом свое образование, Белла возвращается в Лондон к умирающему Годвину Бакстеру. Внезапно появившийся на пороге бравый генерал (законный муж той несчастной, что бросилась когда-то в Темзу) грозится не только навсегда запереть Беллу в собственном доме, но и подвергнуть ее женскому обрезанию, буквально не на ту напал — его дальнейшая судьба в виде мужчины с мозгом и повадками козленка кажется лучшим исходом. А преображенная скитаниями Белла тонко улыбается какой-то строчке из открытой перед нею книги. Романтический кошмар, которым был «Франкенштейн» Мэри Шелли, завершился идиллией, равно приглянувшейся и феминисткам, и их недоброжелателям, и уже успевшей собрать множество кинопризов.
В «Бедных-несчастных» и вправду найдется то, что можно было бы выставлять в качестве заспиртованных экспонатов в собрании доктора Годвина Бакстера. Помимо затейливых зверюшек, декораций и костюмов, это, прежде всего, большая часть гримас и движений Эммы Стоун — актриса играет резко, умно и разнообразно, ее роль — одновременно результат кропотливой работы и безудержного баловства. Ее «живая кукла» так и не станет «настоящей женщиной», но Белле это и не нужно, быть экспонатом — значит быть образцом, идеальной моделью, совершенством, воплощением бессмертной идеи «не тушкой, так чучелком».
Именно таким причудливым «чучелком» и остается фильм Лантимоса. Сосредоточенность на сексе и тяга к вивисекции и вправду напоминают шекспировского Калибана. Чем музейные экспонаты у Гринуэя отличаются от лабораторных экспонатов у Лантимоса? Ну хотя бы тем, что первый говорил об обреченной на уничтожение красоте, а второй — о том, что человеческий род довольно нелеп (неужели кто-то спорит?) Там было «Принц, будьте благодарны за музыку!» — а здесь что-то про социализм и пирожные. Там гротеск был инструментом для того, чтобы «отгадать загадку непостижимого», здесь — чтобы поглазеть на куросвинку. Гринуэй говорил о том, как устроен мир, Лантимос — о том, как устроен аттракцион. «Формидабль!» — как и было сказано.
Текст: Лилия Шитенбург
Заглавная иллюстрация: © Yorgos Lanthimos/Searchlight Pictures
Заглавная иллюстрация: © Yorgos Lanthimos/Searchlight Pictures
Читайте также: