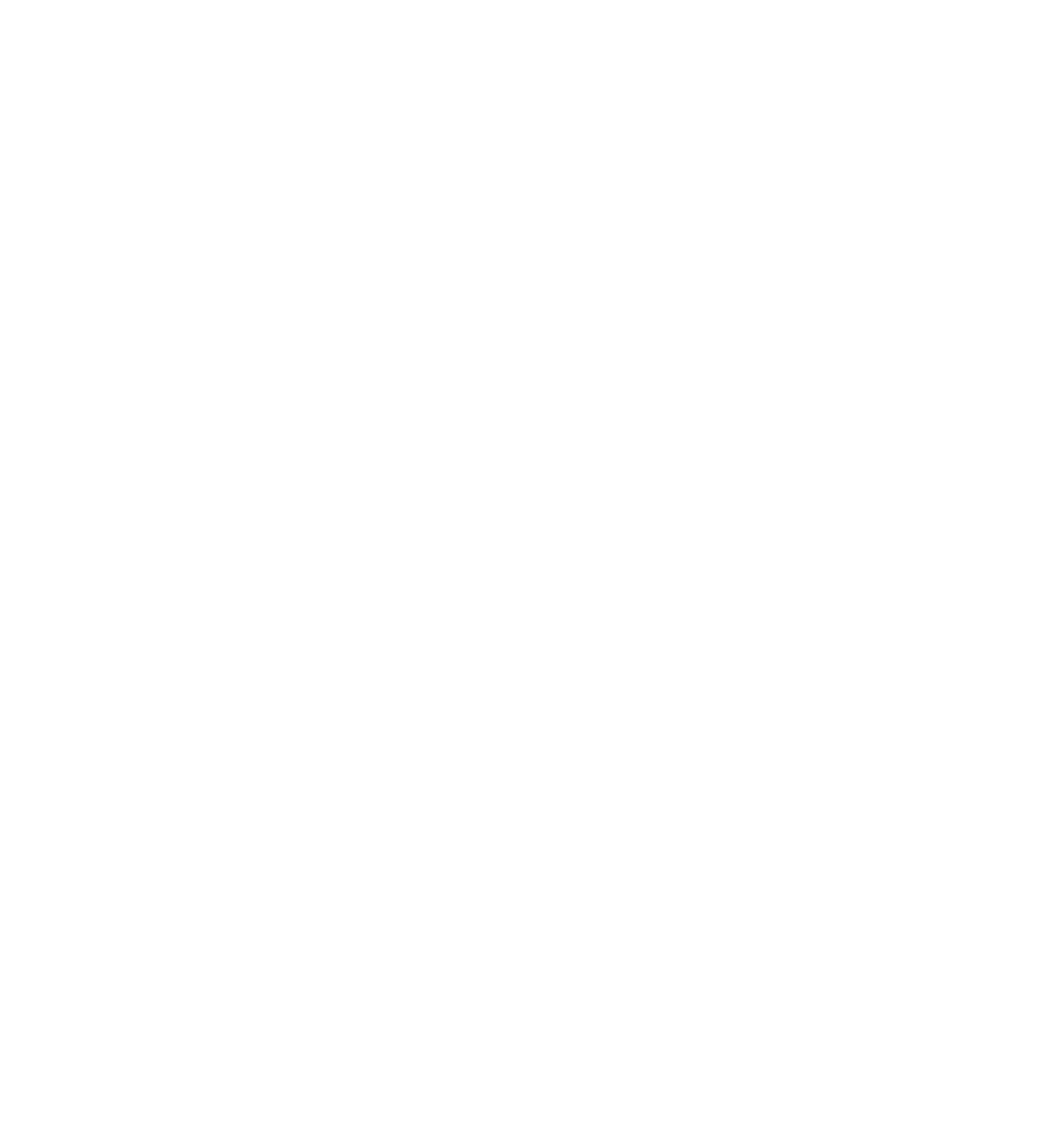| Бесконечный архив Антон Светличный 19 сентября 2025 |
Мы продолжаем публикацию материалов нового выпуска печатной версии Masters Journal, впервые представленного на минувшей неделе в рамках 13-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Очередной номер журнала посвящен архивному буму в современном искусстве. О предыстории, предпосылках и философии этого феномена для Masters Journal размышляет один из лидеров новой русской музыки композитор Антон Светличный.
БУКВА: ОБЩАЯ ТЕОРИЯ АРХИВА
Архивный поворот в современном искусстве произошел в начале нулевых: частота использования терминов archive и archival в нескольких специализированных журналах резко подскочила вверх около 2005 года. Хотя у архивной эпохи нет официального манифеста и никто из художников не провозглашал ее наступление единолично, точкой отсчета, по-видимому, можно считать статью Хэла Фостера An Archival Impulse (журнал October, осень 2004), после которой об архивах заговорили все. Сам Фостер не считал архивный импульс явлением радикально новым. Отыскивая его приметы в арт-практиках прошлых поколений (фотоархивах Родченко, эстетике пинбордов британской Independent Group или работах Раушенберга), он, вместе с тем, подчеркивал, что в начале нового века потребность в работе с архивом снова проникла всюду.
Понимание архива в гуманитарных исследованиях и арт-критике ушло далеко от изначального прикладного смысла. Хотя трактаты о практике и методологии архивной работы известны с XVII века, наиболее широко цитируемые тексты по теме архива принадлежат не действующим архивистам, а философам — Вальтеру Беньямину, Мишелю Фуко, Жаку Деррида и другим. За организованным собранием документов прошлого исследователи видят совокупность метафорических значений, говорящих о власти, истории, памяти и контроле.
Архивы, хранившие сведения о юридических правах, переписях населения, судебных решениях и налогах, были инструментом управления и символом насаждаемого сверху порядка. В Германии XVII века «архивом» называли систематическое изложение какой-либо темы или издание сборника документов по ней: архив ассоциировался с обоснованной, исчерпывающей, структурированной информацией, знакомство с которой давало возможность подобраться к сути вещей. Современное понимание архива переносит эти же отношения на эпистемологическое производство. Накладывая санкционированную властью структуру на первичный фактический материал, архив конструирует знание — сохраняет одни данные, исключает другие и наделяет третьи каноническим статусом. Фуко понимает архив как «закон того, что может быть сказано; систему, которая управляет появлением высказываний как уникальных событий». Деррида дополняет эти рассуждения мыслями о диалектике памяти и подавления. Архив определяется не только тем, что он хранит, но даже в большей степени тем, что он хранить отказывается. «Экономика памяти», проявляющая себя в актах отбора, создает индивидуальность архива — личную, институциональную или культурную.
Томас Хиршхон. Relief Abstract: Oxford & Cambridge (2000) © Christie's
С неменьшим основанием в архивах можно видеть символы хаоса и беспорядка. Работники архивов не раз сравнивали место своей службы с «темницей» или «преисподней». Пыль, плесень, плохая вентиляция и освещение портили одежду, зрение и здоровье. Документам вредили мыши, книжные черви, сырость и пожары. Зимой от холода замерзали руки и чернила. Неудобные полки, отсутствие каталогов и многочисленные неподписанные материалы усложняли поиск и вызывали страх вовсе не найти заказанный правителем документ. Сотрудники архива, как правило, не до конца представляли, что именно у них хранится; непредвиденные открытия в ходе систематических архивных исследований регулярно случаются даже в наши дни. Изучение архива всегда чревато откровением. Современные теоретики видят в хаотичности архивной структуры эвристический потенциал, способствующий рождению новых идей из совмещения случайных находок. Томас Хиршхорн, один из наиболее влиятельных художников-архивистов, описывает этот потенциал как «волю соединять». Деррида пишет об «означении путем совмещения знаков», а Вальтер Беньямин и Михаил Ямпольский считают фрагментацию архива важнейшим инструментом анализа разорванной реальности современного города.
Ценность исторического наследия первой увидела в архивах буржуазная эпоха. После взятия Бастилии, распада Священной Римской империи и крушения старых режимов документы, подтверждавшие привилегии элиты, потеряли юридический смысл. Аристократические и монастырские архивы были перемещены, централизованы и обнародованы, после чего романтические историки нашли в них мистическую связь с прошлым, а государственные мужи — материал для построения национальной идентичности. Фуко пишет, что в XIX веке музеи и библиотеки из личных собраний, выражающих индивидуальный вкус, стали архиваторами коллективного времени, вбирающими в себя все эпохи сразу. Выпадая из своего времени, существуя в более медленном историческом темпе, чем мир вокруг них, архивы провоцируют на размышления не только о прошлом, но также о настоящем и будущем.
Деррида обрамляет свою теорию мессианской метафизикой, видя в архиве инвестицию в гипотетическое будущее: в должное время мы поймем, что данное собрание означало на самом деле, но когда наступит это время — неизвестно. Хэл Фостер, напротив, приветствует архивизм как возврат к ангажированности, противостоящей «отрыву от настоящего» и отказу от политической проблематики в современном искусстве. Артисты, кураторы и исследователи используют архивную теорию для критической оценки институций и индивидуальной пересборки иерархий в ситуации распада художественного канона и разрушения музейной системы. Одни вскрывают существующие структуры подавления и формируют «контристорию», обнаруживая материалы, систематически исключаемые из архива, замалчиваемые и недостаточно репрезентированные группы. Другие видят в архивной работе потенциал утопического non fiction — критического анализа реальности, помогающего сформулировать более совершенную альтернативу существующему порядку. Некоторые художники отвечают на неадекватность официальных структур самоисторизацией; недавний выдающийся ее образец — автоархив режиссера Бориса Юхананова.
ЦИФРА: АРХИВ В ЭПОХУ ДИГИТАЛИЗАЦИИ
Влияние цифровых технологий привело к радикальным сдвигам во всех сферах жизни — не исключая и архив. Взаимодействие с базами данных и цифровыми коллекциями документов по многим параметрам непохоже на взаимодействие с архивами бумажной эпохи. Виртуализация стирает различия между архивом, библиотекой, музеем и выставкой. Цифровой архив, в отличие от физического, всегда экспонирован (как музейная коллекция), доступен для обзора и взаимодействия, а часто и для пополнения, проиндексирован и фокусируется не только на хранении, но и на передаче знаний (как библиотека), выполняет функцию активной культурной памяти (как художественный канон) и способен хранить не только материальные объекты. Хранение цифровых объектов сравнительно легко обеспечить — они не громоздкие, не хрупкие и не покрываются пылью. Атмосферы цифрового и физического архивов отличаются друг от друга радикально.
С точки зрения потребителя цифровой архив лишен локальности. Для доступа к физическим документам требуется путешествие в конкретную точку на карте. Цифровой архив доступен отовсюду и более того — часто проактивен, не ждет нашего появления, а сам вторгается в жизнь, навязывая взаимодействие с собой через каналы коммуникации. Структура архива, ранее овеществленная в виде шкафов и ящиков, а позже в виде древовидной структуры логических папок на жестком диске, постепенно избавляется от пространственного измерения, уступая место поиску по индексированной базе данных. Такой поиск, упрощая работу, одновременно снижает шансы обнаружить в архиве нечто непредвиденное — исследователь попадает в зависимость от метаданных, целиком исключающих нерелевантные результаты из выдачи.
Физические архивы как институты власти и контроля связаны с секретностью и ограничениями — само слово «архив» происходит от греческого «архейон», означавшего дом архонта, гражданина, обладавшего значительной политической властью, включая полномочия видеть и интерпретировать содержимое архива. Церковные, аристократические и государственные архивы редко демонстрировались посторонним и даже владельцы, как правило, посещали их не более пары раз за жизнь. Цифровой архив перевернул эту практику с ног на голову. Массовую дигитализацию сопровождают громкие дискуссии вокруг авторского права и полулегальных культурных архивов, созданных усилиями пользователей. Пиринговые сети, торрент-трекеры, LibGen и Sci-Hub под лозунгом «Когда каждый станет библиотекарем, библиотека будет повсюду» переводят культурные ценности в общественное достояние вопреки желаниям их владельцев. Бизнес в ответ порой приватизирует коллекции, сформированные энтузиастами. Некоторые частные цифровые коллекции воскрешают на новом этапе «кабинеты редкостей», существовавшие до начала классической музейной эры.
Кристиан Болтански. Reserve-detective III (1987) © 2007 Artists rights society (ARS)
В отличие от физических архивов, история которых во многом сводится к истории их появления, цифровые архивы редко хранят информацию о том, кто и при каких обстоятельствах передал документы на хранение. Многие музыканты держат под рукой коллекции оцифрованных нот — как правило, непубличные. Узнать, когда и кем был первично создан файл из такой коллекции, чаще всего невозможно. Как и традиционные, эти теневые архивы из-за нехватки ресурсов редко бывают полностью упорядочены — файлы дублируются и попадают в разные папки, одни и те же сочинения хранятся в нескольких версиях, страницы оказываются перевернуты или пропущены, а ошибки копирования могут сделать часть из них нечитаемыми.
Цифровой архив наследует некоторые фундаментальные проблемы архива физического: хранить можно лишь ограниченное количество данных, а дольше и надежнее всего сохраняется не обязательно то, что было наиболее значимо для основателей (или первых адресатов) архива. Оцифровка, следующая принципам формирования канона, выработанным в доцифровую эпоху, способна усилить дисбаланс репрезентации: тотальное цифровое присутствие основных имен оттесняет художников «длинного хвоста» еще дальше на периферию. Материалы, доступные в цифровом виде, оказываются лишь островом посреди бескрайнего океана информации, по-прежнему хранящейся на полках физических архивов и невидимой сквозь дигитальную оптику — рукописных партитур провинциальных композиторов (особенно старших поколений), записей на аудиокассетах и бобинах, альбомных фотографий, дневников и других артефактов.
С точки зрения архивации цифровая реальность склонна разрушаться с удручающе высокой скоростью, напоминающей о нестабильных мирах новелл Филипа Дика. Имя, высеченное на камне, может храниться тысячи лет; оптические и магнитные носители теряют функциональность за несколько десятилетий. Технологии устаревают, выводятся из активного употребления или выходят из моды (flash, CD-i, NFT, ранние версии операционных систем и приложений); данные, сохраненные с их помощью, оказываются недоступны. Около сорока процентов интернет-сайтов живут не дольше десяти лет; проекты архивации содержимого интернета решают эту проблему лишь частично. Цифровые артефакты легко подделать, они могут меняться или стираться с серверов по требованию извне (вспомним сцены курения, удаленные из классических мультфильмов или повсеместный запрет на публикацию нот и записей композитора Георгия Свиридова), и не всегда оказываются достоверным источником данных. Виртуальный мир не справляется с ролью надежного долговременного хранилища информации.
Цифровой капитализм стремится стереть себя через запланированное устаревание технологий и жизнь в долг у будущего и природы. Материальный след коммуникации менее важен для его обитателей, чем сама коммуникация; архив как современная практика в этом смысле противостоит социальной действительности, которую он архивирует. Рилсы, сторис, танцы TikTok-инфлюэнсеров и другие коммуникативные формы занимают немалую часть нашего досуга, но мы не планируем их долговременное хранение и, скорее всего, не можем себе его позволить. Полвека спустя большая часть развлекательной культуры первой четверти XXI века останется жить лишь в воспоминаниях.
НОТА: МУЗЫКА И АРХИВНАЯ КУЛЬТУРА
Письменная история европейской музыки развивается во многом параллельно истории архивов, совпадая с ней в нескольких узловых точках. Начало той и другой относят к Каролингскому Возрождению, завершившему собой Темные века. С XII века в Европе распространилась «прагматическая грамотность» — деловые формы письма, не преследующие литературных или религиозных целей. Вслед за ней выросло число документов: от трехсот в год при папе Иннокентии III до 50000 в год при Бонифации VIII, правившем век спустя. В этот же период европейцы начали производство бумаги и открыли первые университеты, готовившие специалистов для административной работы; одновременно университеты (и прежде всего Сорбонна) стали центрами прогресса в музыкальной нотации и ритмике.
В начале XVII века появились первые систематические печатные труды об архивах и первые книги о музыкальной истории. Музыка, чей дохристианский этап был полностью утрачен, не могла, в отличие от литературы и живописи, подражать античным образцам и долгое время считала себя искусством без прошлого. Каждое новое поколение музыкантов отвергало музыку предшественников. Иоганн Тинкторис, один из виднейших музыкальных теоретиков Ренессанса, в 1477 году высказался в типичной манере, написав, что вся музыка, сочиненная ранее последних сорока лет, оскорбляет ухо и недостойна слушания. Лишь с появлением оперы музыка обратилась к реставрации воображаемой античности, осознала собственную протяженность во времени и признала существование различных музыкальных стилей — вступив таким образом в архивную стадию.
Архив Веркбунда — Музей вещей (Берлин) © 2025 Werkbundarchiv – Museum der Dinge
До появления звукового кинематографа музыка оставалась наиболее технически совершенным и сильнодействующим из массовых искусств. Для буржуазных государств XIX века она стала незаменимым инструментом внедрения в общество национальных идей и архивации чувств. Архивные практики вроде коллекционирования народных песен усилиями композиторов превращались в оперы и симфонии, на которых основывались соответствующие национальные мифы. La fureur de l'inedit, лихорадка публикации неопубликованных документов, к которой привел новообретенный «культ архива», в музыке проявила себя изданиями сочинений национальных классиков (от Баха и Генделя до Куперена, Палестрины и Перселла) и старинных партитур. Принципы административного управления, для которых ценности архива (письменная фиксация и подотчетность) важнее, чем наследственные права, нашли отражение в сатирических интонациях «Бюрократической сонатины» Эрика Сати и «Бюрократиады» Родиона Щедрина.
Не раз зафиксированное в истории уничтожение архивных записей о долгах или списков заключенных воспринималось как праздник освобождения. Теоретик Свен Шпикер видит аналогичный бунт против архива в революциях артистических парадигм первых десятилетий XX века. Художники бросали вызов архивному порядку, вводя в систему случайность, как Дюшан, или эксплуатируя ускользающие от упорядоченности моменты разрыва, как сюрреалисты. Футуристы Феруччо Бузони и Луиджи Руссоло проповедовали радикальный отказ от музыкальной традиции, Джон Кейдж и композиторы Нью-Йоркской школы использовали случайные процедуры и приветствовали иррациональные решения, а композиторы следующих поколений, вроде Арво Пярта или Федерико Марии Сарделли, опускаются вглубь музыкальной истории, игнорируя последние несколько веков ее эволюции.
В эссе «Фантазия о библиотеке» Мишель Фуко утверждает, что искусство модернизма рано или поздно приходит к саморефлексии: «Флобер для библиотеки — то же, что Мане для музея. Оба создавали работы, находясь в осознанном отношении к более ранним картинам или текстам [...] Они возводят свое искусство в архив». Возникновение саморефлексивной музыки также связано с эпохой позднего романтизма в лице таких фигур как Брамс и Рихард Штраус — но символом наступления новой эпохи стало творчество Игоря Стравинского. Мысля категориями визуального искусства, Стравинский превращает пространство своих сочинений в выставочное, экспонируя присвоенный чужой материал и ставя под сомнение устоявшуюся концепцию авторства. «Искусство, — пишет Фуко, — отныне основывается не на идее индивидуального субъекта или художественного гения, но на том, что архив собрал и будет собирать в будущем». Эта сентенция выглядит образцовым резюме творческого метода Стравинского.
Жак Деррида трактует стремление к архивации фрейдистски, через смысловую фигуру Танатоса. Концептуализация архивной деятельности в эпоху позитивизма и «смерти бога» основана на страхе культурной потери. Попытка избежать полного исчезновения, архивируя свое существование, оборачивается постепенным растворением субъекта в его материальных следах. Музыковед Хайнц-Клаус Метцгер с похожих позиций интерпретирует творчество Стравинского, провокационно определяя его как некрофилию — склонность работать с музыкальными стилями, вышедшими из активного употребления, утратившими целостность и похороненными в культурном архиве.
Как и contemporary art, современная музыка в новом веке проблематизирует свое архивное наследие. Систематическое обращение к архиву стало поведенческой нормой для всех участников музыкального процесса. Слушатели пользуются доступностью в звукозаписях музыки любых мест и времен. Кураторы подбирают для концертных программ редкий репертуар на основе неочевидных тематических сближений — образцами могут служить концертные сезоны Дома культуры «ГЭС-2» или проекты молодых московских коллективов «Притяжение» и Im Spiegel. Музыканты-аутентисты ищут в архивных трактатах возможности для обновления исполнительской традиции. Композиторы вступают в диалог с музыкой прошлого как академические исследователи (вспомним гарвардские курсы лекций Стравинского или Лучано Берио), а также в рамках собственных опусов — в формате цитат, коллажей, ремейков, рекомпозиций, досочинения утраченных фрагментов и пр. Из бесконечного многообразия примеров назовем здесь инсталляцию Владимира Раннева «Дальше — тишина», сконструированную из заключительных аккордов оркестровых пьес классического репертуара (позже он превратил ее в симфонический опус), а также переработку «Весны священной» Стравинского для биг-бенда, выполненную Алексеем Сысоевым (оба проекта были представлены в «ГЭС-2»).
Сара Каллахан в книге Art+Archive. Understanding the Archival Turn in Contemporary Art утверждает, что искусство 60-х годов выступает для современных арт-практик в качестве архива. Архив оказывается инструментом исторического членения, отделения прошлого от современности и диагностики дискурсов, более не опознаваемых как «современные». В истории визуальных искусств и истории музыки эта дискурсивная граница проходит по-разному. Современная академическая музыка ведет свою родословную от раннего модерна, поэтому за архивным материалом для интерпретации она в основном обращается к более ранним эпохам — от XIX века вглубь истории (аналогично поступает режиссерская опера). Одно из редких исключений — «Музыка для ужинов короля Убю» Бернда Алоиза Циммерманна, гигантский коллаж, на равных цитирующий музыку от Бетховена и Штрауса до серийных сочинений Луиджи Даллапикколы и джаза. Другое исключение — композиторы российской группы «Сопротивление материала», в первые десятилетия нового века не раз адресовавшиеся к конструктивизму 1920-х как резерву утопического мышления: «Контррельеф» Дмитрия Курляндского, Parovoz Structures Алексея Сюмака, «Пропевень о проросли мировой» и «Архитектон Тета» Бориса Филановского и др.
© 2025 Die photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur
Поднятая постмодернистами проблема ненадежности архива как свидетельства преследовала музыку с самых первых шагов ее истории. Ни одна из форм нотации до изобретения звукозаписи не позволяла зафиксировать звучащее с достаточно большой точностью; обучение правильному исполнению в рамках устной традиции требуется даже для музыки XIX века. Ранние звукозаписи недостоверны из-за высокого уровня искажений и расположения инструментов на разном расстоянии от микрофона. По мере развития технологий аудиозапись все больше превращается в вымышленное, изобретаемое пространство — выбор удачных дублей, овердаббинг и наложение эффектов способны создать звуковую картину, не имеющую отношения к реальности и не воплотимую за пределами студии: так пианист Артур Схондервуд и ансамбль Cristofori записывают фортепианные концерты Бетховена с фиктивным и недостижимым в живом исполнении балансом инструментов. Заведомая поддельность цитатного материала, ощущаемая как трагедия, становится одной из центральных тем в творчестве Альфреда Шнитке, а новейшая история музыкальных мистификаций насчитывает полторы сотни лет — от приписанных классикам сочинений Фрица Крейслера и братьев Казадезюс, до симфонии Овсянико-Куликовского и концептуальных проектов «Айнар Оле Асмудсен» и «Лесасерма Похунахис».
Деконструкция музейного дискурса в искусстве 60-х находит параллель в критике концертных практик, которую в те же годы предпринимал музыкальный авангард: Пьер Булез предлагал взрывать оперные театры, для пространственной музыки Штокхаузена и Ксенакиса не годилась традиционная архитектура концертного зала, инструментальный театр Маурисио Кагеля ставил под сомнение устойчивость исполнительских ритуалов, а движение Флюксус устраивало перформансы, выводившие зрителей из зоны комфорта. Революция, произведенная техникой семплирования и отрефлексированная на ранних стадиях проектами наподобие Plunderphonics Джона Освальда, радикально усилила ретро-тенденции поп-культуры, еще сильнее проблематизировав оригинальность средств музыкального высказывания. Развитие генеративных соцсетей, по-видимому, сделает успех этой революции окончательно необратимым. Вызванный изобилием шок однотипности приведет музыку к отказу от категории «клише» и может вызвать к жизни тотальный пересмотр архивных оснований для эстетических оценок.
Ключевая в архивной теории тема структур включения и исключения актуальна и для музыки. Воскрешение забытых имен, постколониальные и феминистические проекты дополняются в музыке открывшейся с изобретением фонографа возможностью писать документированную историю исполнительства. Легитимной частью музыкального архива считается теперь и устный городской фольклор — хранимые в коллективной памяти без участия нотной записи мелодии вроде «Собачьего вальса». Критической переоценке подвергаются не только исполнительские традиции, музыкальные материалы и модели письма, но и консерваторские учебные технологии, как правило, неподходящие для обучения неевропейским музыкальным традициям.
Среди современных композиторов, приверженных архивным тенденциям, следует назвать прежде всего Йоханнеса Крайдлера, для сочинений которого работа с цифровым архивом и базами данных фундаментально важна и системна — от имитации «цифровой перегрузки» цитированием 70 тысяч песен в одном электронном треке до сонификации биржевых индексов периода финансового кризиса. Максимилиан Марколл подрывает концепт авторства в ситуации архива серией пьес Amproprification, в которой он создает собственные композиции из широко известных чужих, оперируя исключительно уровнями громкости. Пьер Жодловски создает сочинение San Clemente о венецианском отеле, который ранее был психиатрической клиникой, поднимая проблему вытеснения важных исторических сюжетов из памяти благодаря переизбытку информации. Александр Шуберт в проекте Crawlers программирует виртуальные двойники страниц в соцсетях, привлекая эффект «зловещей долины» для размышлений об условности сетевой репрезентации.
Хэл Фостер выделяет два типичных приема архивного искусства, обозначаемые им как препродакшн (остановка работы на стадии сбора материала и публикация черновиков и эскизов) и постпродакшн (искажающая интерпретация готового материала, часто принадлежащего поп-культуре). В музыке к первому типу можно отнести практику work in progress, бесконечного ветвящегося пересочинения найденного материала, типичную для Булеза, или проект Филановского Infinite Superposition, в котором музыкальный опус серийно разрастается вширь, оставаясь исполнимым в каждой отдельной итерации. Ко второму типу принадлежат проекты Body of Your Dreams Якоба тер Вельдхейса, Peter Parker Бернхарда Гандера, Godzilla Eats Las Vegas Эика Уитакера и многие другие, а также многочисленные уже проекты на тему компьютерных игр — Krull Quest Эйвинда Торвунда, Under Pressure Брайана Куэсты, опера «Мир дивных комнат» Вадима Генина, инсталляции Cellular bells Михаила Пучкова, «Аттрактор» Егора Савельянова и др.
Существование музыки на стримингах и жестких дисках обостряет вопросы картографирования музыкального архива. Как создать исчерпывающую систему музыкальных жанров? Возможны ли альтернативные классификации музыки по тематике или прикладной задаче? Кого нужно указывать первым при описании музыки — композитора или исполнителя? Является музыка чистым или мультимедийным искусством? Считать ли liner notes и обложки пластинок золотой эпохи рока неотъемлемой частью альбома и, следовательно, выделять ли пространство для их хранения рядом с аудиофайлами? Как сканировать и изучать широкоформатные партитуры? Бесконечное множество этих и других вопросов наглядно демонстрирует — из нишевой и узкоспециальной практики архивация превратилась в важнейшую общественную функцию, во многом определяющую собой структуру и ритм жизни современного человека. Интуитивное прозрение Борхеса с каждым годом выглядит все более похожим на реальность — отныне мы все живем в Вавилонской библиотеке, бесконечном архиве, частью которого является и архив музыкальный.
Заглавная иллюстрация: ©Hufton+Crow
Читайте также: