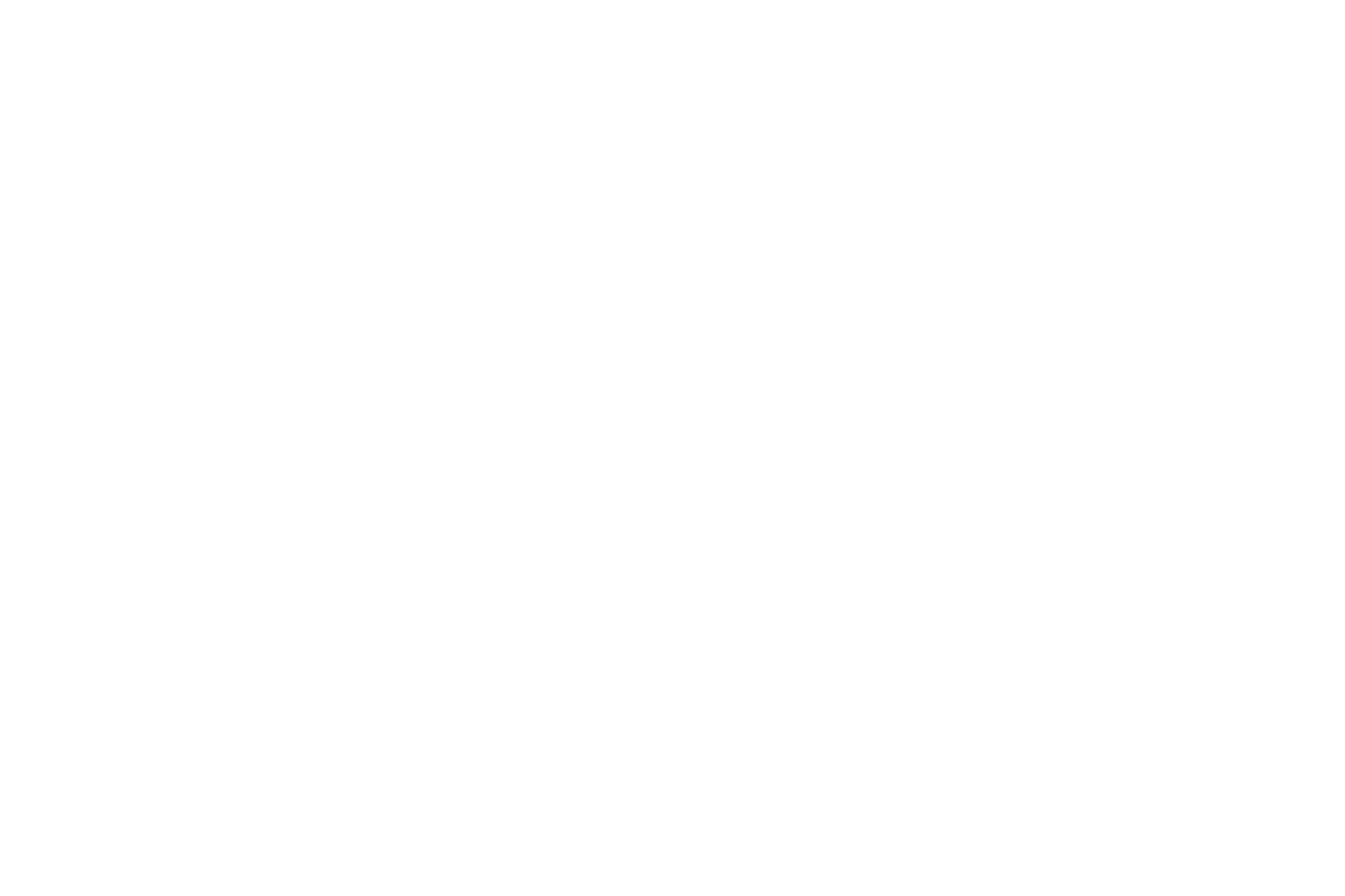| Биеннале частных историй Ксения Волкова о Биеннале современного искусства в Бухаре 11 октября 2025 |
Первая международная биеннале современного искусства в Узбекистане, открывшаяся в Бухаре под руководством комиссара Гаяне Умеровой и куратора Дианы Кэмпбелл под девизом «Рецепты для разбитых сердец» — амбициозный проект культурной дипломатии, выходящий далеко за рамки чисто художественного события. Инициированная Фондом развития искусства и культуры Узбекистана (ACDF) и проходящая под патронатом президента Шавката Мирзиеева, биеннале демонстрирует стратегический подход к позиционированию страны на международной культурной арене через возрождение исторического наследия. ACDF известен своей программной деятельностью по продвижению художников и культуры Узбекистана на ключевых арт-площадках мира — незадолго до открытия Бухарской биеннале узбекский павильон, спроектированный бюро Atelier Brückner, стал одним из ньюсмейкеров Всемирной выставки EXPO 2025 в Осаке и удостоился культовой дизайнерской премии Red Dot.
Город, на протяжении двух с лишним тысячелетий остававшийся перекрестком культур на Великом шелковом пути, сегодня выглядит символом нового этапа развития Узбекистана — страны, достаточно изолированной для туристов что из Европы, что из США: в ту же Бухару они, как правило, приезжают лишь один раз. Биеннале создает новую точку притяжения для культурного туризма, давая повод возвращаться в город снова и снова каждые два года, одновременно позиционируя себя как часть более широкой национальной стратегии культурного возрождения. ACDF занят созданием новой культурной среды, заполнением множества существующих институциональных лакун: на решение этой системной задачи работают и Ташкентский центр современного искусства, и Аральский культурный саммит, и будущий Национальный музей Узбекистана, который к весне 2028 года построят по проекту Тадао Андо.
East site [specific]
Архитектурное решение биеннале, разработанное студией waiwai под руководством Ваэля Аль-Авара, представляет инновационный подход к работе с историческим наследием. Создание пространства для демонстрации объектов биеннале через реставрацию и адаптацию исторических зданий — от мечети Магоки Аттори до средневековых караван-сараев — предлагает модель устойчивого развития культурной инфраструктуры. Важно, что эти пространства не воспринимаются как музейные артефакты, но становятся живыми центрами современной культуры: особенность бухарской модели заключается в акценте на процессуальность и совместное творчество. Длительные сроки создания произведений, вовлечение местных сообществ, внимание к традиционным ремеслам и кулинарным практикам создают альтернативу западноцентричной модели биеннале как эксклюзивного события для арт-элиты.
Абдулвахид Бухория и Джурабек Сиддиков. Blue Room © Bukhara Biennal
Кураторская концепция Дианы Кэмпбелл строится на философии исцеления через искусство, где метафора разбитого сердца становится универсальным языком для осмысления современных травм — от экологических катастроф до социальных конфликтов. Привлечение как международных художников, так и местных мастеров-ремесленников, с условием создания всех работ непосредственно в Узбекистане (no shipping здесь не просто концепция, а строжайшее правило), демонстрирует стремление к подлинному культурному диалогу, а не к простому импорту западных художественных практик. Главное ноу-хау — равноправие художника и ремесленника-соавтора, где местные мастера не обслуживают, но подчеркивают идею, а разрыв между художником и теми, кто воплощает его задумку физическим трудом, отсутствует. Бухарская биеннале создает художественное пространство в первую очередь для местных жителей, и уж только потом — для «понаехавших» любителей совриска.
В контексте современных дискуссий о деколонизации искусства и поиске альтернативных моделей развития биеннале проект Гаяне Умеровой и Дианы Кэмпбелл становится попыткой создания «третьего пути» — между глобализацией и культурным национализмом, между модернизацией и традицией, между элитарностью и массовостью искусства: автор термина nobrow Джон Сибрук наверняка пришел бы в восторг от бухарской концепции.
Примечательно, что площадками биеннале стали архитектурные объекты, либо находящиеся сейчас на реставрации, либо вернувшие себе публичный статус стараниями кураторов «Рецептов для разбитых сердец»: так, медресе Рашид, успевшая в советское время побывать и жилым домом, и конторой «Фоторазнобыт», открылась для посетителей впервые после масштабной реставрации именно благодаря биеннале. В силу особенностей архитектуры медресе и караван-сараев большинство арт-объектов изолированы друг от друга — расположенные в миниатюрных комнатках для проживания путников или юных мусульманских семинаристов инсталляции каждый раз заставляют посетителя смирять гордыню, проходя через низенькие дверные проемы, ведущие в аскетичные кельи.
О том, что участникам биеннале это только на руку, свидетельствует хотя бы инсталляция Blue Room художника-керамиста Абдулвахида Каримова (Бухория) и мастера-гравера Джурабека Сиддикова: 19 тысяч керамических плиток ручной работы заполняют всю бывшую молельную комнату медресе Гавкушон, создавая пространство исцеления через медитацию, где ничто не отвлекает от чрезвычайно комфортного для глаз голубого цвета традиционных узбекских изразцов — согласно древневосточным верованиям он символизирует чистое счастье.
Некоторые объекты биеннале вписаны в открытые пространства городских площадей. Так, работа Энтони Гормли CLOSE находится в сахане (внутреннем дворе) мечети Ходжа Калон. Совместно с бухарским реставратором Тимуром Джумаевым Гормли изготовил множество глиняных кирпичей, которые расположил в форме лабиринта из человеческих тел в окружении руин мечети. Каждый кирпич создан в древней технике, когда на материал воздействуют всем телом — от ступни до кисти руки, эта работа — посвящение этим самым кирпичикам, «созданным вручную частям искусственно созданного мира, которые в дальнейшем создавали нас». В неожиданный диалог с британским классиком вступает работа Mur mur композитора Дэвида Соин Таппесера, звукорежиссера Бориса Шершенкова и мастера по узбекским национальным игрушкам хуштаку Кубаро Бабаева — глиняные свистульки словно бы переосмысляют фигурки из Field с точки зрения исторически ориентированного искусства.
Энтони Гормли и Тимуром Джумаевым. CLOSE © Adrien Dirand
Бельгийка хорватского происхождения Хана Милетич при помощи золотошвейщиков Бахшилло и Муккадас Юмаевых делает заплатки на потрескавшихся стенах мечети ХоджаКалон, используя методы золотого шитья. Отсылая одновременно и к японской традиции золотой заплатки кинцуги, и к привычке местных жителей к самостоятельному небольшому ремонту зданий, работа Joins становится одним из самых ярких и пронзительных образов биеннале, иллюстрирующих кураторский подход к осмыслению публичных пространств.
Частные истории на глобальном фоне
Считается, что рецепт плова изобрел великий персидский ученый, философ и врач Ибн Сина, чтобы излечить страдающего от невозможности неравного брака принца: легенда, из которой родились «Рецепты для разбитых сердец», не только задает вектор разговора об исцелении, но и делает акцент на очень личных историях. На Бухарской биеннале практически начисто отсутствует политическое искусство — во главе угла стоит персональная тема, персональная боль каждого художника. Работа междисциплинарной английской художницы узбекского происхождения Азизы Кадыри, вышивальщицы Юлдуз Мухиддиновой и канадского режиссера Мэтью Биссоннетта Cut from the Same Cloth посвящена дедушке Кадыри и рассказывает о его путешествии на юг США для исследования хлопкоочистительного оборудования. На индустриальных валах в технике сюзане вышиты дневниковые записи из той поездки и узнаваемые образы хлопка — так неравнодушный зритель, располагающий временем, узнает, что, например, в конце 1960-х в Нью-Мехико и Хорезмской народной советской республике жили в похожих домах.
Тотальная инсталляция Home of Hope — плод коллаборации узбекского дизайнера корейского происхождения Жени Ким, фотографа Зилолы Саидовы, мастера-золотошвейки Махфузы Салимовой и кузнецов Захира и Саида Камоловых — натурально представляет собой гардероб, наполненный архивными вещами бренда J.Kim. Раздвигая ворох платьев на входе в худжру медресе Рашид, невольно вспоминаешь о проектах «Фабрики найденных одежд», а сама келья вызывает в памяти образ тюка или узелка, который берут с собой переселенцы, быстро снимаясь с насиженного места. Фотографии, запечатлевшие процесс производства работ мастерами, окружены не только дизайнерскими вещами, но и созданными Камоловыми ножницами в форме птиц — типичными инструментами золотошвей, которые в Бухаре можно встретить на каждом шагу. Приковывая удивленный взгляд приезжих в каждом торговом куполе, аисты — навсегда, как говорят, покинувшие город после осушения болот — становятся трогательным символом Бухары, навсегда остающимся в памяти.
Еще одну частную историю рассказывает мультидисциплинарная художница из Стамбула Хера Буйюкташчиан: в работе Under the Mulberry Tree, the Wind Sang Our Names, созданной в дуэте с видеохудожником Исламом Худойбердиевым, она вспоминает свою бабушку, выращивавшую шелкопрядов — и, обращаясь к традиции выдалбливания музыкальных инструментов из тутового дерева, придумывает фантазийные инструменты в форме сердца коровы, рыбы и шелкопряда.
Ее пять жизней
Перформативную программу биеннале Кэмпбэлл и ее команда умудряются выстроить, находясь в безопасной гавани традиционных для Узбекистана жанров и коллективов исполнительских искусств — но одновременно выходя на важный для региона разговор о месте женщины в профессиональном и бытовом сообществах.
Сауле Сулейменова. Kutadgu Bilig © Bukhara Biennal
Перформанс ансамбля Shiru-Shakar (название отсылает к поэзии муламма, а также первому изданному в эмиграции сборнику стихов знаменитого бухарца Ильяас Малаева), где вышедшие на пенсию женщины вновь обретают не только субъектность, но и авторитет, проходит во дворе Караван-сарая Олимджон, где размещена работа казахстанской художницы Сауле Сулейменовой Kutadgu Bilig. Известная своими мультикультурными коллажами из полиэтиленовых пакетов, она называет пластик вечным материалом и увековечивает в истории повседневные сцены из жизни Центральной Азии. Вдохновленная участницами ансамбля, Сулейманова создала прозрачные парящие холсты, на которые из собранных у жителей Бухары пакетов перенесла праздничные образы жителей страны: узнаваемые стеганые жилетки органично рождаются из пластика с лого FixPrice, а роскошь шелкового куйляка передана тем самым пакетом Victoria’s Secret или Lacoste, в который вам непременно упакуют такую покупку на местном базаре.
Shiru-Shakar превращает частные женские ритуальные пространства и действия, сопровождаемые пением (подготовка к свадьбе, празднование рождения), в публичные акты репрезентации себя силами искусства. Женщина в Узбекистане часто воспринимается как хранительница ритуалов и культуры, однако перформанс Shiru-Shakar превращает это пассивное сохранение в активное созидание и манифест против маргинализации пожилых людей.
Междисциплинарная художница Анна Люблина создает перформанс Bukhara Peace Agency с музыкантами-танцовщицами созанда — ритуальными лидерами, которые исторически обладали значительным духовным и социальным авторитетом. Выбор партнерш неслучаен: Люблина происходит из семьи советских евреев-эмигрантов, а созанда, несмотря на еврейские корни, по сей день остаются ключевыми фигурами бухарской музыкальной культуры.
Эти женщины-певицы были незаменимы в придворных церемониях. Их танец начинается в кистях рук, перетекает к груди и шее, завершается движениями ног — все тело становится проводником сакральных идей персидской и суфийской поэзии, шашмакома и зороастризма. Когда советская власть уничтожала шаманизм, именно созанда сохранили духовные традиции Бухары. Роль хранительниц культурной памяти ставит их вне привычных категорий: созанда не вписываются ни в советскую модернизацию, ни в традиционный патриархат, воплощая собой третий путь — носителей альтернативного знания.
Мария Перес Симао. Untitled © Bukhara Biennal
Перформанс проходит в «декорациях» работы Люблиной и инсталляции A Corner for Everyone Лилиан Корделл и Зи Кахрамоновой, сконструировавших дом-утопию из гигантских плюшевых блоков, похожих на детский конструктор. Люблина построила «шатер мира», украшенный традиционной вышивкой сюзане, где звучат рецепты мира от разных сообществ Бухары. Идейным лидером такого межкультурного сообщества могла бы стать Туфахон (Туфа Пинхасова) — легендарная бухарская еврейка, лучшая певица созанда, популяризатор танца и макома от Азии до Америки.
Возможно, самый радикальный взгляд на женскую субъектность во всей программе представляет проект Intimate Conversations: индийская художница Шакунтала Кулкарни, хореограф Арундхати Чаттопадхьяя и коллектив Бухарской филармонии создают транснациональное женское пространство, где невысказанные переживания находят выражение через движение и звук. Акцент на внутреннем смятении может показаться подкреплением стереотипов о женской эмоциональности, но в контексте узбекского общества публичное выражение внутренней жизни становится политическим актом: надтреснутый тембр вокалисток отражает не только личную борьбу, но и коллективный женский опыт под давлением патриархата.
Единственный перформанс, созданный без взаимодействия с художниками биеннале, помещен в инсталляцию бразильской суперзвезды Марии Перес Симао. Известная живописными ландшафтами на площадках уровня Grand Palais и Art Basel, она создала с мозаичистом Бахтияром Бабамурадовым керамическую вселенную в честь астрономов и ученых Узбекистана — так перформанс масштабируется от внутреннего ландшафта до глобального универсума.
hylozoic/desires. Longing © Bukhara Biennal
Щепотка ритуала
Бухарская биеннале открылась кукольным шествием Safar бангладешца Камруззамана Шадхина и главного художника бухарского театра кукол Завкидина Еггорова, а под занавес первого дня перформативной программы был показан перформанс дуэта hylozoic/desires «Восход полной луны» — так организаторы в очередной раз провозглашают союз современного искусства с церемониальными традициями: художественная практика становится частью духовного поиска, который веками определял регион. Кукольное шествие работает одновременно как археологический проект и практика исцеления. Перформанс воскрешает историю мистических путешествий суфиев по Центральной и Южной Азии как глубоких духовных миграций, трансформировавших и ландшафт, и сознание. В центральноазиатской традиции животные — духовные проводники, способные пересекать границы между материальным и мистическим мирами. Масштабные куклы Шадхина и Еггорова буквально создают дополненную реальность: мифические симурги с портала соседнего медресе Нодир Диван-беги становятся медиаторами современного искусства прямо на главной площади биеннале — Ляби-Хауз.
Перформанс The Rising of the Full Moon hylozoic/desires (арт-пара индийской писательницы и перформера Химали Сингха Соина и музыканта немецкого происхождения Дэвида Соина Таппесера, исповедующих теорию мира, в котором все формы жизни — камень, дух, машина или человек — равны) интегрируют космические ритмы лунного цикла в городское пространство, превращая водные пути города из утилитарной инфраструктуры в сакральную географию.
Совместный с бухарскими карнаистами перформанс становится продолжением инсталляции дуэта Longing, созданной в коллаборации с известным ткачом Расулджоном Мирзаахмедовым (шутка ли — Мирзаахмедов десять лет работал с Оскаром де ла Рента, с момента сенсационной коллекции 2005 года, когда тот вывел икат, легендарную узбекскую орнаментальную ткань, на подиумы всех столиц мировой моды). Longing — самый масштабный и первый ушедший в производство проект биеннале. Шелковое полотно протянуто через арык Шахруд (вокруг которого сосредоточена и территория биеннале), который когда-то доставлял в город воду через сложную систему хаузов, искусственных водоемов, использовавшихся в древности в качестве источника питьевой воды при мечетях. Здесь икат уже должен возбудить в путнике не жажду высокой моды, а напомнить о волнах Аральского моря, которое, никогда не будучи морем в прямом смысле этого слова, с годами и вовсе обмелело и превратилось в центрально-азиатскую Атлантиду. «Восход полной луны» отсылает к исламским церемониям и доисламской космологии — яркий пример узбекской духовности, где исламский мистицизм впитал шаманские и зороастрийские практики. Участие наккарахана — церемониального ансамбля барабанщиков, которые исторически объявляли о важных событиях, — в очередной раз провозглашает двуединство современного искусства и духовного ритуала, столь важного для Бухарской биеннале.
Текст: Ксения Волкова
Заглавная иллюстрация: Камруззаман Шадхин и Завкидин Еггоров. Safar © Bukhara Biennal
Заглавная иллюстрация: Камруззаман Шадхин и Завкидин Еггоров. Safar © Bukhara Biennal
Читайте также: