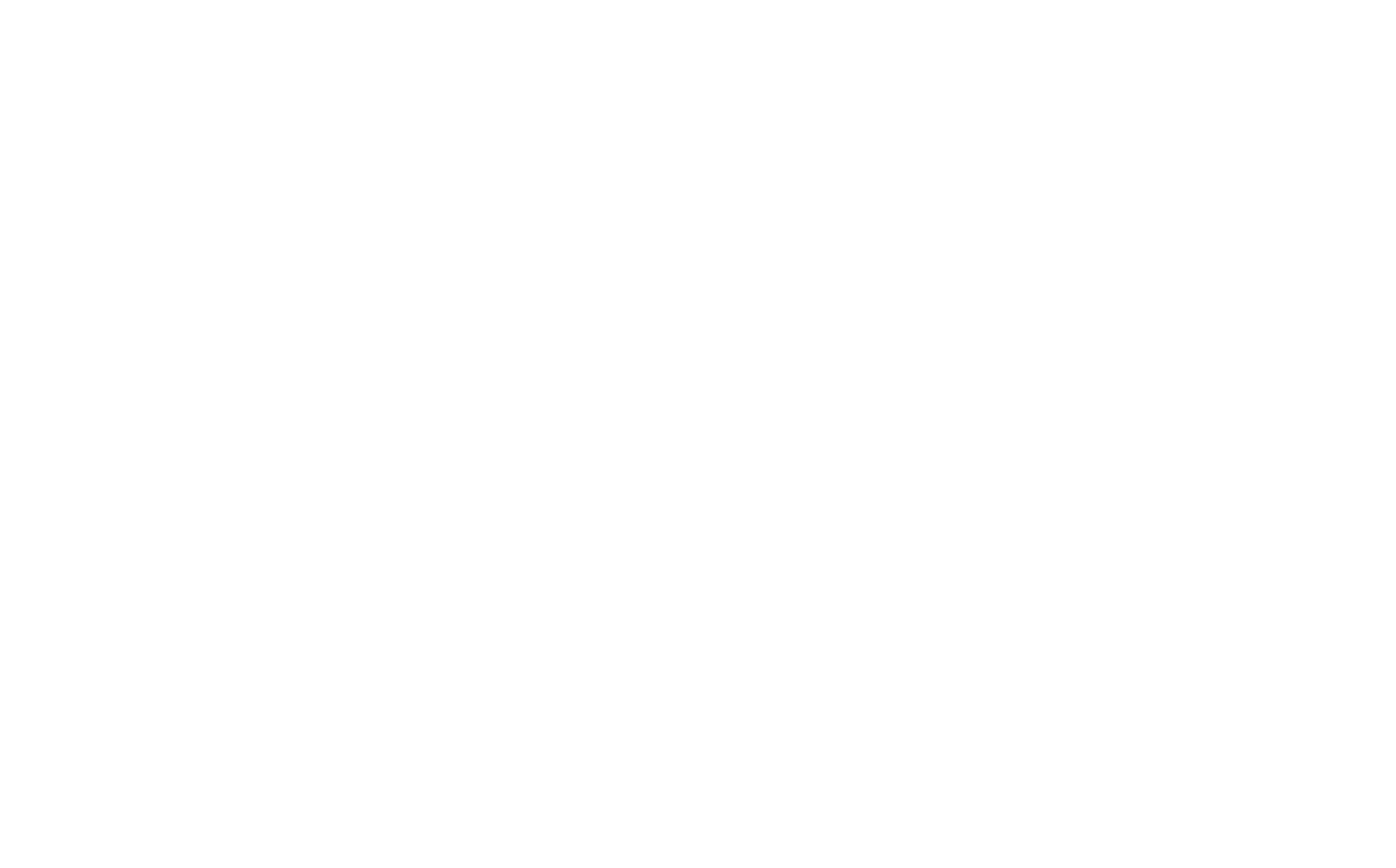Свет за собой Юлия Бедерова о «Человеческом голосе» Дмитрия Волкострелова 30 октября 2023 |
Пермский театр оперы и балета продолжает необъявленный цикл спектаклей-премьер с условным названием «диалоги новых композиторов с прошлым музыкального театра». Премьера одноактной монооперы «Человеческий голос» Франсиса Пуленка по драме Жана Кокто, написанной для хорошей подруги композитора знаменитой парижской певицы Дениз Дюваль, в постановке Дмитрия Волкострелова — третий проект серии (первым в ноябре 2021-го был «Путеводитель по балету» Настасьи Хрущевой, вступавшей в диалог со «Спящей красавицей» Чайковского). Одновременно это вторая одноактная опера в цикле, для которой написано музыкальное обрамление, пролог и эпилог (первым был «Замок герцога Синяя Борода» с диалогом подлинника Белы Бартока и новой музыки Валерия Воронова в постановке Евгении Сафоновой), — и первая работа одного из лидеров новой русской музыки Владимира Горлинского на большой оперной сцене. Но есть нюанс: несколько последних концертных премьер Горлинского представляли собой работы в индивидуальном авторском стиле с неофициальным определением «театр звуков (и звуки в нем актеры)». Еще одна хитрость заключается в том, что пролог и эпилог к «Голосу» — не комментарий или надстройка, а самостоятельное произведение в двух частях, разделенных оперой Пуленка, и можно легко себе представить отдельное исполнение партитуры Горлинского где-нибудь на филармонической сцене с воображаемой, но редуцированной серединой.
Очевидно, пермский проект должен быть (и наверняка будет) продолжен, другое дело, что одноактных опер, форматно подходящих для наращивания до полного театрального вечера, в истории музыки не так много. «Человеческий голос» — одна из таких редкостей, выделяющаяся среди сестер радикальным структурным лаконизмом: это не просто одноактная форма, но моноопера, представляющая собой даже не краткий сюжет или высказывание, а действие на грани бездействия (мы движемся от начала к финалу одного телефонного разговора). И даже не монолог, а часть диалога двух собеседников, которые друг друга не видят, в котором есть только одна сторона, и в этом эфирном материале, кроме голоса женщины, все прочее редуцировано до нулевой отметки, включая присутствие мужчины на другом конце телефонного провода — мы его не слышим и даже не знаем в точности, существует ли он на самом деле (что бы ни было этим самым «на самом деле» в рамках оперного произведения). Оркестровая ткань у Пуленка компенсирует не только результаты редукции, но и многое из того, что составляет контекст, подтекст, метатекст, пост-текст, пре-текст, ассоциативный ряд и прочие элементы драматически отсутствующего события коммуникации.
Все пермские соавторы Пуленка по новому «Голосу» — композитор, режиссер, дирижер (Владимир Ткаченко), оператор (Станислав Лавров) — слышат в знаменитой музыке не только ее внешнюю артистичность и органическую выразительность, но и ее закадровое молчание. В театре интерпретации, который они вместе выстраивают в зале, все материалы и формы точно и буквально воспроизводят оригинал — детали прописанных у Кокто декораций (кресло, стол, лампа, кровать, дверь в ванную), детализированный почерк Пуленка в партитуре для небольшого состава оркестра, прозрачного, но щедро заполняющего зал и притягивающего, втягивающего слух, — но они переинтепретированы, иначе подсвечены, пересобраны так, что молчание в партитуре Пуленка начинает ясно звучать. Техника отстранения конструирует механизм проявления.
© Андрей Чунтомов
Театральная пространство «Голоса», вслед за музыкальным, разделено на две части: сценическую и экранную. Они настолько же самостоятельны и формально самодостаточны, насколько пересекаются друг с другом каким-то неизвестным Евклиду способом. Архитектура оперной формы становится многопотоковой, мебиусной. С формальной точки зрения фильм «Концерт по заявка» по мотивам пьесы Франца Ксавера Креца, идущий параллельным планом все время, пока длится партитура «Человеческого голоса» (солистка Надежда Павлова выходит на сцену к столику-креслу-лампе Кокто в роли самой себя, исполняющей Пуленка), является одной из рамок партитуры в целой системе фреймов (в нее входят и рассказ Беккета «Потолок», и две части La voix Горлинского, и отголоски, если не голоса, неслышимых у Пуленка героев). Но в реальности мы сходу перестаем в точности понимать, что именно здесь является рамкой — и что, собственно, она обрамляет: фильм — оперу или опера — фильм, молчание на экране — бесконечную речь на сцене, или реплики трагической сценической героини — мерный ритм повседневных действий в беззвучном грохоте стертого до обыденности одиночества.
Женщина на сцене благосклонно и благодарно демонстрирует свой феноменальный вокальный артистизм в диалоге с изумительно артистичным пермским оркестром и его дирижером, постепенно смещаясь в пространстве и времени все ближе к своей героине, ввинчиваясь в центр ее тихой экспрессии.
Женщина на экране (в обеих ролях Надежда Павлова, но ее раздвоение феноменально и невероятно) тщательно исполняет антидемонстративный балет повседневности: она заходит в дом, мы слышим звук открывающегося замка в тишине, звон ключей, шмяк дверцы гардеробного шкафа в прихожей, куда повесить одежду, шлеп обуви, которую снять и аккуратно поставить. Дальше — не слышим никаких звуков экранной мизансцены: женщина беззвучно распаковывает вечерние покупки (готовая еда, сок), вытирает пыль с подоконника под цветком, греет ужин в микроволновке, ест, моет посуду, выключает за собой свет, выходя в другую комнату, чтобы переодеться, разложить диван, аккуратно постелить простынь. Снова включает свет, чтобы налить чай, опять выключает его. Она все время за собой подчищает. Ее интерьер так стерилен, так гармоничен в своей идеальной, нейтральной серо-коричневой цветовой гамме, так подробен и так пуст, так органичен и так искусственен, что ощущается не как внешняя форма, а как разворачивающаяся в музыкальном времени структура внутреннего состояния. Время женщины на экране длится примерно столько же, сколько дает своей героине Пуленк — около часа.
© Андрей Чунтомов
Самый изысканный, ироничный, прозрачный, мелодичный, гармонически и фактурно изобретательный, но без излишеств, самый светский среди религиозных и самый верующий среди блистательных, самый трагический среди веселых и самый игривый среди безутешных, Пуленк за свою жизнь создает несколько самых светлых и самых мрачных партитур XX века и всегда очень трезво и трепетно соотносится с временем — не вообще, а тем, которое на часах. Его кармелитки в опере о кошмаре идеологического насилия под знаком светлого будущего умирают так долго, как долго длится их казнь и персонажи выходят за рамки истории. Но музыка «Голоса» звучит не дольше конкретного разговора — и заканчивается сразу и навсегда.
Время в «Человеческом голосе» Волкострелова–Горлинского устроено хитро — оно движется в детально синхронизированном темпе, но определенно кажется, что встало и стоит как вкопанное. Это звучит тем более потрясающе, чем острее мы чувствуем спектакль как действие здесь и сейчас и чем явственнее ощущаем здесь и сейчас как расслоившееся время, будто оно разделилось на одни бесконечные и другие схлопнувшиеся фракции.
Две части музыки Горлинского не наращивают и не продлевают, но погружают партитуру прошлого века в новый пространственно-временной объем здесь и сейчас. В нем словно начинает звучать то, о чем Пуленк умолчал, что живет за кадром его гипертрофированно артистичной истории-реплики. Горлинский деликатно и медленно пересобирает оркестр Пуленка (буквально чуть-чуть подкрашивая его то Стравинским, то cool-джазовым нуаром) и сочиняет для него новый театральный сюжет, в котором звуки гуляют привольно, мерзнут и греются, теряются и находятся — и слушатель путешествует вместе с ними, парадоксально оставаясь в пространстве «Голоса», в движении концентрических кругов его атмосферы.
© Андрей Чунтомов
Двухчастная форма, играющая в спектакле роль «пролога» и «эпилога» пристраивает к Пуленку поле мерцания мелких деталей, тембров, ансамблевых мизансцен и сольных поз, инструментальных даже не реплик, а обликов, спектра температур, радуги оркестровых цветов, параллельных экранной монохромности, в то время как динамически два сочинения-компаньона перпендикулярны, если не рекурсивны. Пролог Горлинского–Волкострелова (Petite voix, «Внутренний голос») начинается в динамической точке финала «Голоса», эпилог (Berceuse ramenante à la vie,«Колыбельная к жизни») медленно возвращает сознание и слух в тишину играющих друг с другом звуков, нюансов, оркестровых прононсов, откуда как будто вырос, всплыл его гибко аффектированный рельеф. И теперь он снова разом утешает и придавливает как камень своим каким-то античным трагизмом и одновременным частным лиризмом как будто шубертовского толка. Так, словно в центре хитроумно объявленной Пуленком «лирической трагедии» (без королей, но теперь, как полагается, с Прологом и Эпилогом) обнаружен археологически хрупкий, тихий, камерный Lied.
Текст: Юлия Бедерова
Заглавная иллюстрация: © Андрей Чунтомов
Заглавная иллюстрация: © Андрей Чунтомов
Читайте также: