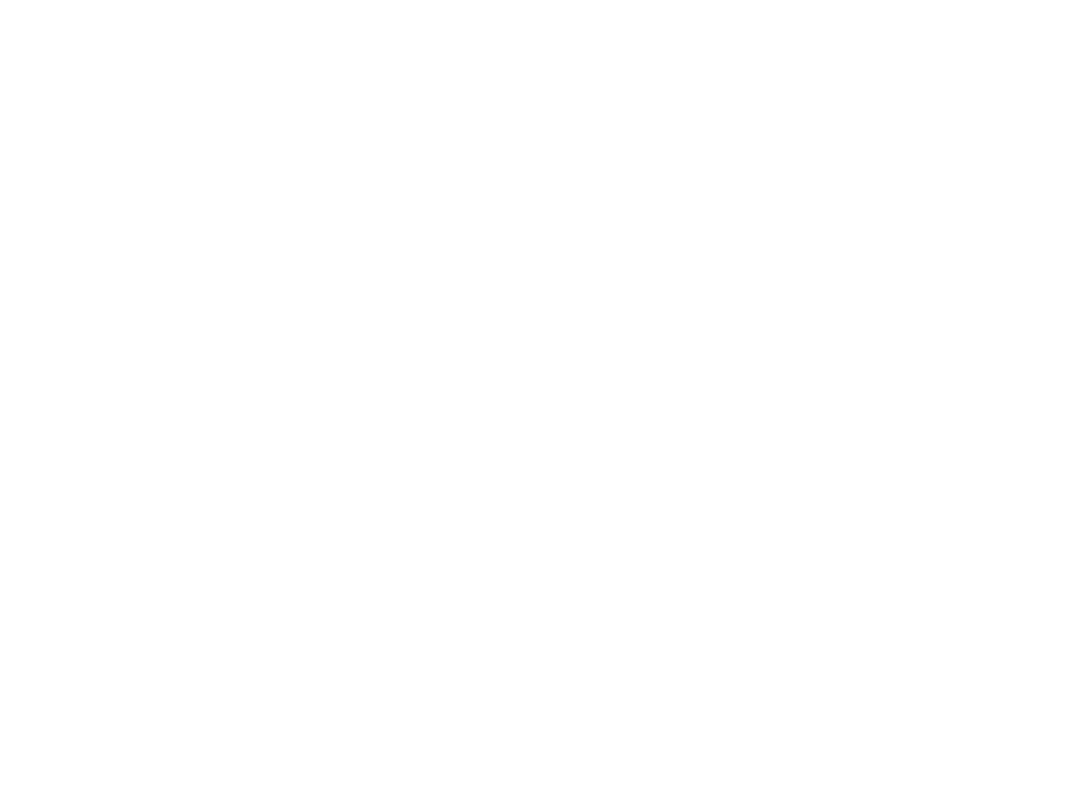| Формула свободы Эрика Булатова Сегодня исполняется 40 дней с ухода Эрика Булатова. О великом русском художнике — Жанна Васильева 18 декабря 2025 |
Советский космос на «Горизонте»
Поэт Всеволод Некрасов назвал 1970-е годы эпохой русского возражения. «Возражаю, и все». Эрик Булатов, один из друзей Всеволода Некрасова, казалось, в это определение эпохи не вписывался.
Его картины «Советский космос», «Горизонт», «Улица Красикова», «Слава КПСС» для многих зрителей выглядели воплощением этого самого советского космоса. То солнцеликий Леонид Ильич, точнее его погрудный портрет, представал на фоне советского герба с флагами пятнадцати союзных республик, и колосья герба золотились вокруг его головы, аки нимб. То на полотне в глубине появлялся центральный павильон ВДНХ с фонтаном «Дружба народов», почти такой, как на рекламном плакате, и красные огромные буквы «Добро пожаловать» шли поверх этой идиллической картины летнего дня. То вовсе главными героями казались огромные буквы во всю высоту холста, прославляющие единственную партию страны. Неудивительно, что один из искусствоведов, как вспоминал Булатов, заметил ему: «Боже мой, но почему вы не лауреат Государственной премии и не народный художник СССР?».
Но у Булатова в 1970-е не было не только званий, но и выставок. Точнее, была одна. Но длилась она ровно сорок пять минут. Потому что в ДК Курчатовского института, куда физики пригласили показать свои работы Булатова, на вернисаж вдруг явилась комиссия, которая сообщила, что через полчаса тут начинает работать танцевальный кружок. Упросили «танцоров» подождать чуть дольше. Словом, кто опоздал, тот не успел. Буквально. Но зато Булатов успел на этой выставке познакомиться с Всеволодом Некрасовым — и с этой встречи началась их дружба.
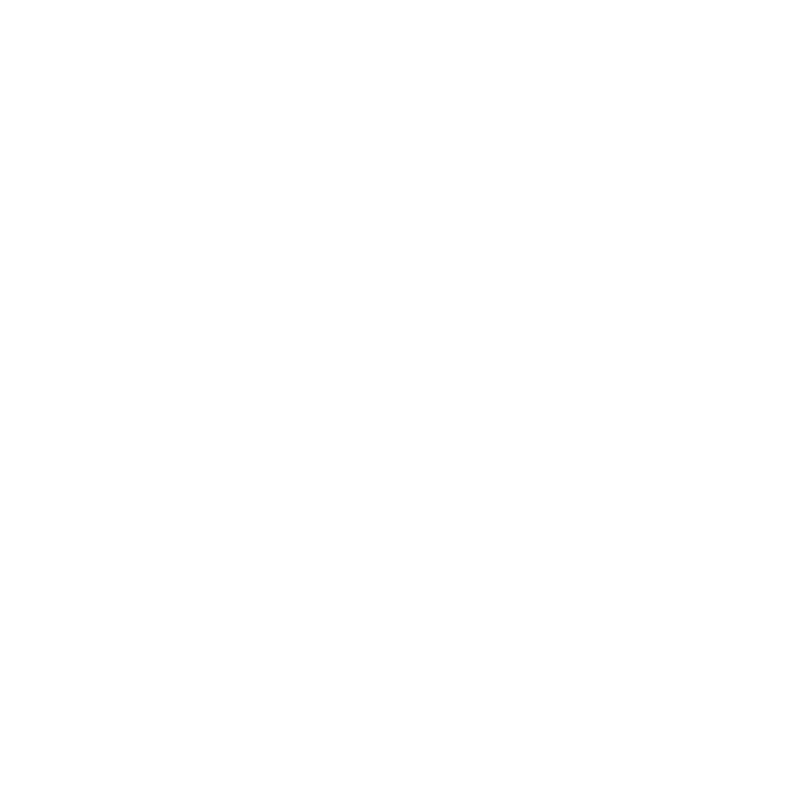
Слава КПСС II. 2002–2005. Холст, масло. 200 × 200 см © Эрик Булатов
В то время как одни видели в картинах Булатова торжество плаката, другие подозревали политический подвох, третьи — смешливые жесты соц-артистов, сам художник дистанцировался и от первых, и от вторых, и от третьих.
Он, выросший во времена, когда искусство должно было «служить» государству, идеологии, партии, которая не могла ошибаться, со скепсисом относится к ангажированному искусству. В статье в журнале «А — Я» он зафиксировал свою позицию: «Любой социум съедает искусство, которое помещает себя в общее с ним пространство. Как он это делает: при помощи ли доллара или идеологии, это уже не имеет значения, просто каждое общество использует те средства, которыми располагает. Представляется необходимость для искусства найти упор за предметами социального мира. Тогда и сам этот социальный мир может быть рассмотрен и понят искусством. Но то, что является объектом рассмотрения, не может быть опорой».
Формула свободы
Выбор картины в качестве опоры даже в 1970-е годы, когда одни увлекались абстракцией, другие — сюрреализмом, третьи — поисками концептуалистов, выглядел неочевидным. А уж в 1980–1990-е и говорить нечего. Но Булатов был учеником Фалька и Фаворского, «диалектика» и «метафизика» живописи. На склоне лет, оказавшись в августе 2024 года в больнице и записывая истории из своей жизни на диктофон, Булатов скажет: «Во всей бегущей мимо, зыбкой и изменчивой реальности картина оказалась для меня не просто главной, а единственной надежной опорой. Лишь держась за картину, я могу что-либо понять не только в искусстве, но и в жизни, которая меня окружает и которой я сам живу. И эту опору дал мне Владимир Андреевич Фаворский».
Поначалу кажется, что Булатов говорит о конструкции картины. О поверхности холста, которая должна превратиться в глубину пространства, сделав невидимой границу между пространством зрителя и далью, возникающей на картине. Булатов эту скрытую драму делает явной, выводит на авансцену. У него пространство картины и плоскость оказываются в поединке не хуже боксерского. И плоскость плаката, будь то портрет генсека, буквы лозунга или советский герб вместо солнца, выглядит рисованным занавесом, за которым, если заглянуть, другая настоящая жизнь, где идут облака.
Иначе говоря, обнажая конструкцию картины, Булатов осмысливает ее как модель жизни. Картина «Горизонт» эту модель демонстрирует с почти пугающей наглядностью. Яркая групка отдыхающих двигаются от края полотна к морскому прибою. И ветерок, и мягкий песочек, и тени на песке, и рябь волн, в которой различимы фигурки купающихся, и небо с легкими облачками — все, кажется, обещает картину идиллического отдыха на море. Одна странность бросается в глаза: ни отдыхающие, ни купальщики явно не замечают странного горизонта, линия которого закрыта широкой парадной красной ковровой дорожкой. Эта дорожка, которую расстилают в торжественных случаях в моменты награждений, съездов, конгрессов, закрывает горизонт, превращая «даль светлую» моря, утра, отдыха то ли в предел мечтаний, то ли в образ закрытого мира. Признаться, этот вид на ковровую дорожку, перечеркивающий перспективу и закрывающий линию горизонта, выглядит столь абсурдно, что поневоле вспоминается Рене Магритт и его картины.
Но для Булатова все же более важны социальные обертона. В 1970-е он пишет именно модель «советского космоса», в которой декорации и реальная жизнь оказываются разделены плоскостью лозунга, плаката, герба, официального портрета. Столкновение двух формул пространств: окна в бесконечный мир и «рельефа», закрывающего вид, — продолжится в картинах, где за плоскость рельефа будут отвечать слова, слова, слова…
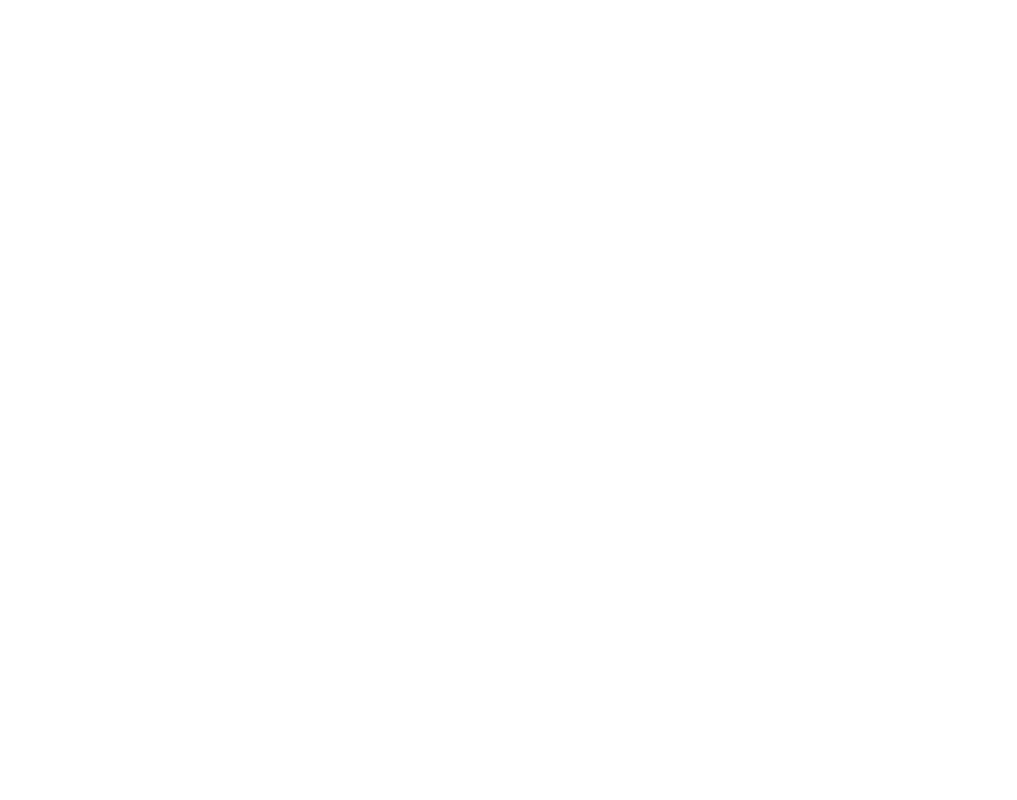
Горизонт. 1971–1972. Холст, масло. 150 × 180 см © Эрик Булатов
Слова, стертые до безликости в идеологических переменах декораций, ничейные, как афиши на театральной тумбе, и, как афиши, требующие внимания прохожих, манящие яркостью цвета, величиной букв, крикливой символичностью…
Слова лозунгов на картинах Булатова чем-то похожи на «реди-мейды» Дюшана, взятые из реальности, но внесенные не в выставочный зал, а в картину. Но плоские «обманки» то остаются на поверхности полотна, загораживая «вход», а то и прямо заявляют — «Входа нет».
«Моей задачей было выразить нашу жизнь такой, какой она стоит перед моими глазами, совершенно не стараясь ее специально интерпретировать. Найти образ этой жизни, дать ей имя — вот в чем была моя задача. Потому что то, от чего хочешь освободиться, надо назвать по имени. И это должно быть его собственное имя, а не то, которое, тебе хотелось бы дать», — скажет Булатов.
Так картина для Эрика Булатова стала формулой свободы.
Живу и вижу
Казалось, что эта работа со словом, этот строгий подход аналитика приведет его прямиком к концептуализму, для которого отношения образа и слова были в фокусе внимания. Но наши концептуалисты исследовали повседневность коммунальной жизни в альбомах, комментариях, тотальных инсталляциях. И делали это невероятно успешно. Но Эрика Булатова интерес к «найденному» слову привел… к поэзии. Прежде всего, поэзии Всеволода Некрасова.
Готовя свою первую большую выставку в России в Третьяковской галерее в 2006 году, Булатов хотел, чтобы в композиционном центре были не картины, сделанные в СССР до отъезда, а работы парижские — с цитатами Александра Блока и Всеволода Некрасова. Собственно, и название ретроспективы «Эрик Булатов. Вот» отсылало к стихотворению Некрасова. «Вот» — и слово, и жест. Взмах, указывающий направление взгляда. Ладонь, открытая навстречу собеседнику. Жест дара и доверия. И еще это название серии из двенадцати работ, где слово принадлежит равно поэзии — Блока и Всеволода Некрасова — и пространству картины. Строго говоря, это пространство, формируемое словом. А значит, тот самый символический мир, в котором живет человек.
Дело было не только в том, что стихотворные строки Некрасова, будь то «Живу — вижу», «Как идут облака, как идут дела», «Свобода есть свобода» вошли в пространство картин Булатова, как влитые. Они становилиcь опорными конструкциями картины.
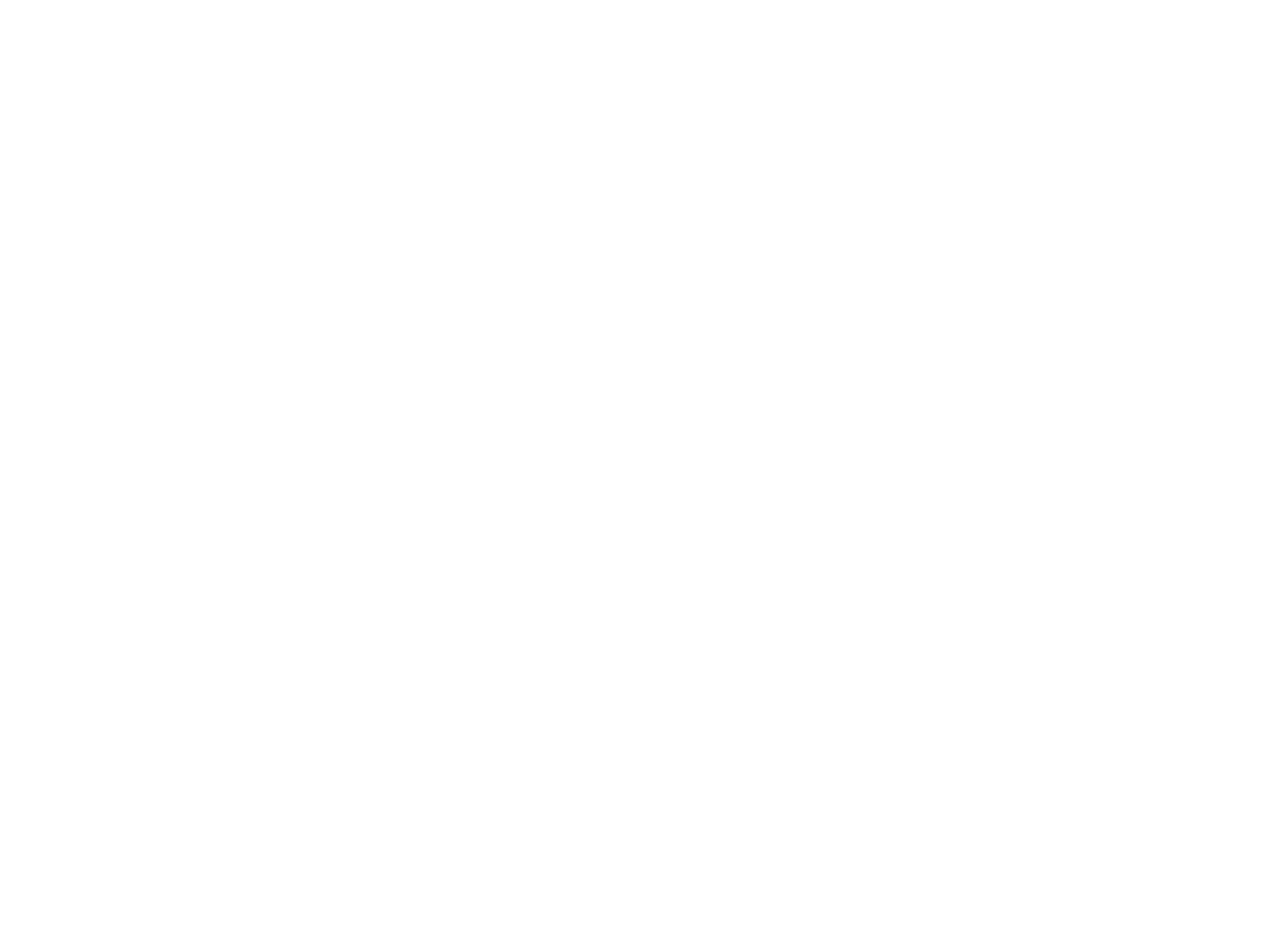
Живу Вижу. 1999. Шелкография. 34,6 × 47,8 см © VLADEY
В картине «Живу — вижу» опорой становится строка из стихотворения Всеволода Некрасова: «Я хотя/не хочу /и не ищу /живу и вижу». Для художника формула Некрасова стала своеобразным кредо. «Я написал эту картину с желанием сказать: “Я клянусь не отворачиваться и не врать”. Стараюсь соответствовать», — скажет Булатов. И уточнит позже: «О Некрасове хочу сказать особо: мы делали, в сущности, одно дело».
Слово тут вроде того камня, что выброшен строителями, а поэт и художник делают его краеугольным — в поэзии и картине. Безымянность, неуловимость этого слова идет от незаметности базовых структур. Мы не видим того, что очевидно, или того, о чем не знаем. Ясность видения определяется ясностью мышления.
Булатов заметит, что его понимание звучащего слова в живописи сблизилось с пониманием Некрасова в литературе. «Пришло понимание, что слово…живет и работает именно в момент его рождения». И если для Всеволода Некрасова основой поэзии была речь, звучащая, живая, естественная, в которой даже указательное словечко «вот» может обретать монументальность, то для Эрика Булатова эта подвижность, сиюминутность речи воплощалась в движении визуального образа слова.
Другую общую черту произведений Булатова и Некрасова отметила Анна Чудецкая. В своей статье она приводит слова из письма Эрика Булатова 1999 года Анне Николаевне Журавлевой, супруге Всеволода Некрасова: «…Стремление к анонимности у нас с Некрасовым, по-моему, общее… Так вот, мне интересно не то, что отличает мое сознание, моя индивидуальность меня совершенно не волнует и не интересует, а то, что меня связывает с другими людьми, что в моем сознании общего, типового. Я говорю о себе, но думаю, что и для Некрасова это так, для Васильева в меньшей степени. В сущности, ведь интересно выразить именно сознание этого времени, теперешнее».
Пространство поэзии буквально превращалось в пространство картины. Но поскольку стихи Некрасова вырастали из звучащей речи, но картина распахивала, раскрывала, как бесконечность, музыкальную речевую стихию.
Белая точка на черном фоне
Позже диалог с поэзией у Булатова сменит диалог с классической картиной. В знаменитом полотне «Картина и зрители», приобретенном Третьяковской галереей в 2017 году, пространство музея, где экскурсовод показывает зрителям «Явление Христа народу», станет порталом входа в даль картины Александра Иванова. Эта анфилада пространств словно стирает границу между зрителями, которые смотрят картину Булатова, экскурсантами, которые слушают экскурсовода на полотне «Картина и зрителями», и слушателями, внимающими Иоанну Крестителю в произведении Александра Иванова.
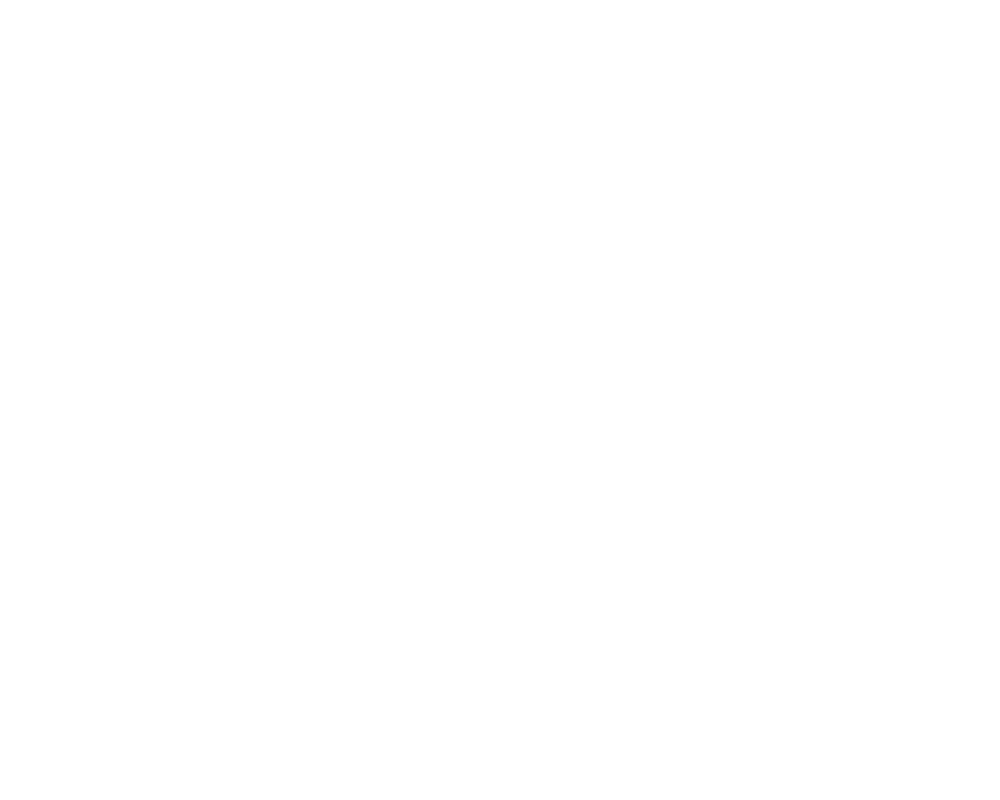
Картина и зрители. 2011–2013. Холст, масло. 200 × 250 см © Эрик Булатов
Кажется, что Булатов тут отказывается от своего фирменного приема, микшируя границу между пространством картины и миром зрителей. «Задача исчезновения границы, конечно, чисто концептуальная, но способ ее реализации тут традиционно реалистический», — заметил Булатов. И добавил: «И в этом как раз и есть моя задача — связывать стили и эпохи». Но надо ли говорить, что опорой и тут оказывается картина?
Когда вроде бы все варианты работы с конструкцией картины исчерпаны, Булатов вдруг сделает «Белую точку» в черноте квадрата, которая звенит, словно луч, прорвавшийся из глубины тьмы. Или — «Дверь». Она похожа на черную дверь в черной комнате. И была бы невидима, если бы не щель, впускающая свет.
Глубина пространства тут спрятана в черноте, а светлая линия двери выглядит почти минималистической абстракцией. Но все же как-то эта белая точка и белая линия (разве не с линии и точки начинается рисунок?) у Булатова каким-то чудом превращаются в глубину. Не просто в знак того, что за черной дырой есть свет других звезда, а именно в ощущение вибрирующего живого света.
Кажется, он возвращается мысленно к тому разговору Фаворского и Фалька, который услышал в юности. Тогда Владимир Андреевич и Роберт Рафаилович говорили об основе гармонии их картин, черная она или белая… Жизнь спустя, их ученик Эрик Булатов включается мысленно в тот диалог.
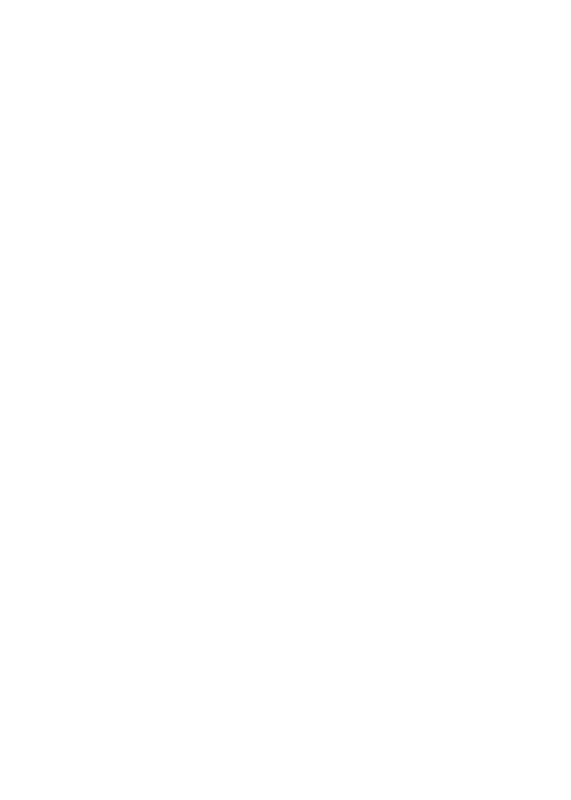
Дверь. 2009–2011. Холст, масло. 210 × 150 см © Эрик Булатов
В книге «Эрик Булатов рассказывает», обложку для которой он успел нарисовать, этот длящийся диалог с учителями очевиден и в размышлениях Булатова о черном и белом: «Свет и мрак — полные противоположности. Свет без пространства вообще невозможен, он существует только в пространстве. Что в основе — темнота или свет? Я все тверже убеждаюсь, что в основе свет. (…) Теперь уже для меня не синий с красным — самое важное противостояние, а черный с белым. Чернота и свет. Это касается всего последнего моего периода, последнего времени».
Не отсюда ли то ощущение надежды, которое рождают его картины? Впрочем, похоже, это ощущение было всегда.
В уже упоминавшейся книге художник Александр Пономарев вспоминает, как поэт Всеволод Некрасов назвал Эрика Булатова боцманом на полубаке. Более неожиданное сравнение трудно вообразить. Но для бывшего подводника Александра Пономарева этот образ абсолютно внятен: «Боцман стоит у брашпиля, в якорной цепи, а якорь на дне всегда был символом надежды. Так и жизнь Эрика Булатова и его искусство для меня символ надежд, что тучи уйдут, появится «Выход» и мир будет сиять ошеломительными красками».
Текст: Жанна Васильева
Заглавная иллюстрация: Улица Красикова. 1977. Холст, масло. 150 × 200 см © Эрик Булатов
Заглавная иллюстрация: Улица Красикова. 1977. Холст, масло. 150 × 200 см © Эрик Булатов
Читайте также: