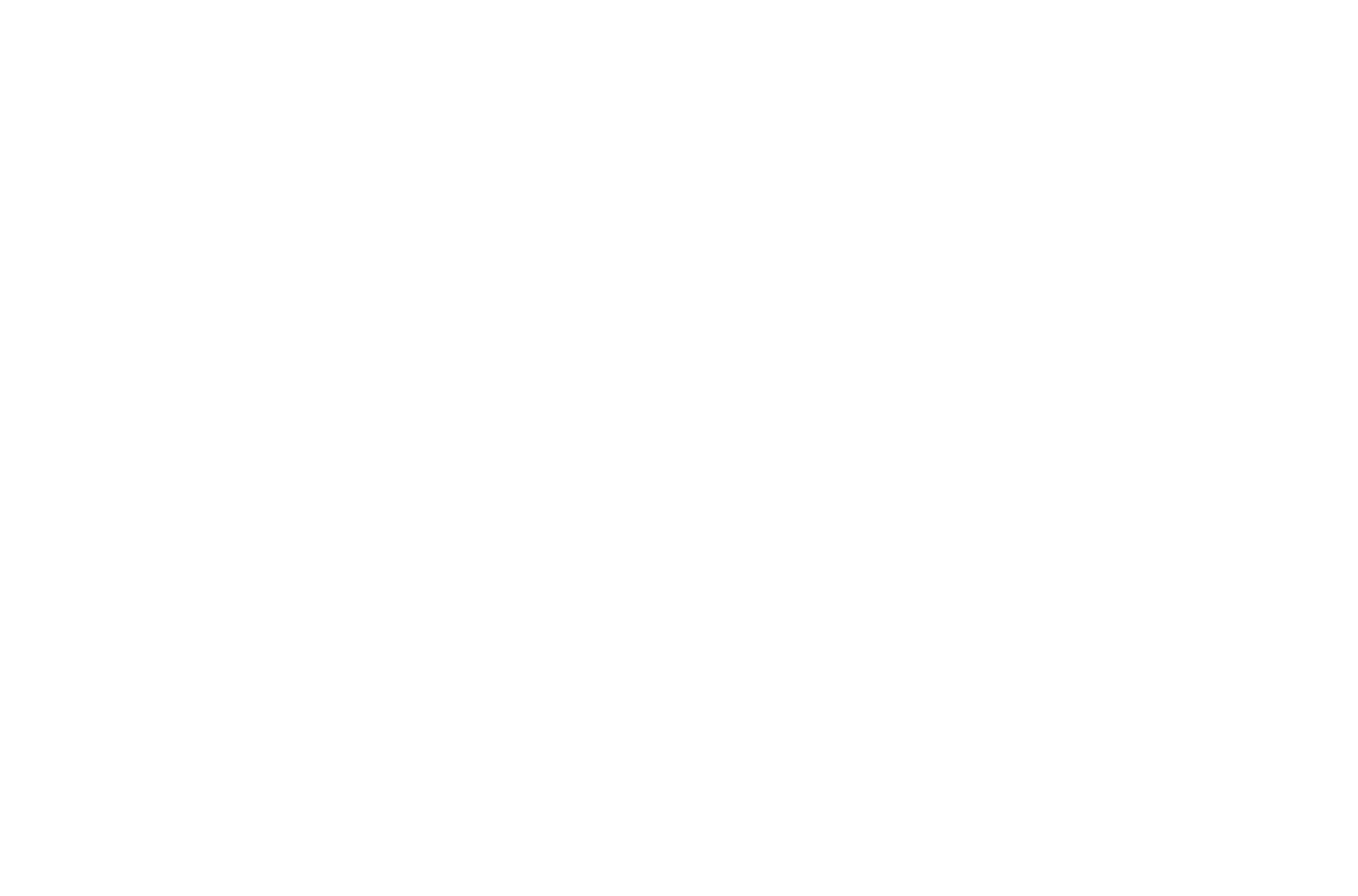| «Зато какой там цвет!…» Алексей Гусев о «Франкенштейне» Гильермо дель Торо 14 ноября 2025 |
Этой фразой давно уже принято отвечать на любые критические замечания в адрес фильмов Гильермо дель Торо. Кажется, уже только самые простодушные из зрителей (будь то давние поклонники, не находящие в себе сил, среди всех горестей мира, разочароваться еще и в нем, или же пылкие неофиты, которых так легко ослепить буйством чего бы то ни было) питают иллюзию, будто режиссеру дель Торо — говоря словами, заведенными у простодушных, — «есть что сказать». И еще неизвестно, относится ли к их числу и разделяет ли эту иллюзию сам дель Торо. Ну, предположим из милосердия, что все ж таки нет. А вот его репутация «стилиста и визионера» — которая, кажется, ныне числится индульгенцией от осмысленности — с каждым фильмом, напротив, все крепчает и уже обрела в широких слоях статус непререкаемый. Кому какое дело до этих ваших смыслов, когда вон какая красота из кадра в кадр переливается и сверкает. В современном мире не то что таких фильмов — таких обоев-то не сыщешь. Да и очевидный перфекционизм отделки, что уж там, впечатляет. Сразу видно — старался человек.
К нынешнему «Франкенштейну» все сказанное относится сполна. В год 2025-й, который ЮНЕСКО впору было бы официально объявить Годом Дракулы (помимо версий Эггерса и, наоборот, Бессона, вести речь о которых здесь уже доводилось, есть ведь еще фильм неподражаемого Раду Жуде), дель Торо обратился к другой базовой модели хоррора — ужасу творца перед творением. И вряд ли этот выбор материала кого-то удивил. Для автора «Лабиринта Фавна» и «Формы воды», с его излюбленным мотивом «на лицо ужасные, добрые внутри» и темой «люди страшнее чудищ», экранизация романа Мэри Шелли была, пожалуй, лишь вопросом времени. Наверно, можно было даже понадеяться, что классический материал, как это порой бывает, даст возможность автору создать своего рода opus magnum, где фирменный стиль обретет стройность, не потеряв в эффектности, а сюжет, такой прямой и проработанный, сможет сохранить свою внятность под напором визуальной фантасмагории.
Куда там.
© Netflix
Начнем с простого. Разумеется, ни один режиссер ни в одном фильме не должен блюсти так называемую «историческую точность». (Эта крамольная мысль начала-таки, по счастью, постепенно прокрадываться в коллективное сознание благодаря «Однажды в Голливуде», — но, наверное, все еще долго будет требовать вытверживания.) Помещая действие фильма в ту или иную эпоху, он не должен ее «воссоздать» — если только замысел этого не требует напрямую; ему довольно ее вообразить. Не потому, что точность неважна, а потому, что важна; воображение художника точнее исторического знания, особенно если им не прикидывается. Как сказала когда-то одна умная зрительница «Хрусталева», — в марте 1953-го на улицах не было такого количества черных автомобилей, но казалось, что было. Историческая эпоха может стать полноценным художественным образом не хуже истории первой любви или покорения галактик.
Вопрос лишь в том, какая, собственно, историческая эпоха является образным материалом для дель Торо. Время действия экранизации романа, написанного в 1818-м, перенесено в 1855–1857-е, — что ж, в добрый путь. Вот только зачем? Зачем аккуратно титровать изображение номером года? что именно он должен значить? Обычно так поступают, когда хотят ввести в сюжет иную фактуру или же погрузить его в визуальную стилистику иной эпохи. О втором варианте чуть позже (спойлер: он не работает); что же до первого, то единственная точка привязки здесь — окончание Крымской войны (1856), которое заставляет тревожиться Харлендера — оружейного магната, спонсирующего опыты Франкенштейна, — о своих финансовых перспективах. Ну и еще он фиксирует ход опытов на дагерротипы (которых, ясное дело, в 1818-м еще в помине не было); однако эти последние в фильме используются лишь раз, когда Существо находит один из них, и лицо на пластинке накладывается на его собственное, — хорошая идея, эффектный кадр, но без сколько-нибудь важного акцента и вовсе без какой-либо разработки. С войной тоже получается не очень ловко. Она здесь вроде бы по делу, — помимо фабульного хода про близкое разорение, война становится темой гуманистических размышлений для Элизабет (по роману — жены, по фильму — недоневестки Франкенштейна), да и трупы, из которых Франкенштейн соберет свое Существо, он отыскивает на поле боя. И пусть даже не так важно, что трупы он отыскивает, стало быть, в Крыму, чтобы немедля работать с ними, еще свежими, в Лихтенштейне. Просто зачем для этого было переносить действие? Мало ли оружейных баронов разорилось после окончания наполеоновских войн и соответствующего прекращения госконтрактов — аккурат во время написания романа? Что бы помешало, раз уж дель Торо позарез понадобился пацифистский обертон, Франкенштейну собирать фрагменты своего создания на поле Ватерлоо (не иначе, бок о бок с почтенным Тенардье)?
Потому что вся остальная фактура здесь все равно идет поперек заявленной даты. То Существо пытается взорвать себя динамитной шашкой, с легкостью купленной в захудалой субарктической фактории, — ровно за десять лет до изобретения Нобеля. То, наоборот, дерзкие замыслы Франкенштейна пытается обуздать некий мифический дисциплинарный трибунал, и члены его заседают в пышных париках, которых уже и ко времени написания романа в заводе не осталось, не то что к 1855-му. И дело не в том, что «хронология не сходится», и не в том даже, что этих расхождений легко можно было бы избежать, всего-навсего не написав номер года в титре. Но что же это за эпоха такая, в которой сосуществуют пышные парики и динамитные шашки? Право же, на разработку внутренней логики этой воображаемой эпохи потребовался бы отдельный фильм. И это точно не фильм дель Торо.
© Netflix
Как ни обязывает профессия для начала заподозревать сложный умысел в любых несуразностях — с «Франкенштейном» это оказывается невыполнимо, как ни старайся. Тут не образная конструкция, рефлексирующая элементы эпох, — тут простая неряшливость. Не та, из-за которой Харлендер, лечащий сифилис ртутью, опрокидывает залпом пробирку со снадобьем (с каким?!), а та, из-за которой он эту пробирку хранит в набалдашнике трости, — а не, например, в удобном саквояже. Из-за которой в огромном замке, где неделя за неделей готовит свои опыты Франкенштейн, нет ни единого человека прислуги. Из-за которой Франкенштейн советует брату уехать из замка, сказав жене, «что возникло срочное дело»; понятно, что в эпоху мобильной связи этот вопрос возникает не вдруг, но все же — каким образом человек в удаленном отовсюду замке, где нет прислуги, может узнать, что у него «возникло срочное дело»? благодаря голубиной почте? по знамениям?… В этом высокобюджетном, размашистом, помпезном фильме эта неряшливость повсюду — вплоть до Библии, которую берет Существо, чтобы прочесть там «самую первую историю», про Адама и Еву, и читает-таки, и даже гравюру рассматривает, — открыв книгу примерно на середине. И пусть автор имеет право придумать эпоху, в которой Крым от Вадуца в шаговой доступности, а динамит не помеха парикам, — но по каким удивительным художественным законам «самая первая история» может располагаться не в самом начале книги? Вероятно, по тем же, по которым полярная экспедиция (датская, из Санкт-Петербурга) в начале фильма встречает закат солнца, а в конце фильма, через несколько часов, — рассвет (сначала день, потом восход — в таком вот порядке). И по тем же, по которым при всеохватном пожаре, взрывы от которого швыряют героев на несколько метров, сгорает все, кроме стеклянных фотопластинок, бумажных дневников — и нераспечатанного письма. Которое было брошено среди канистр с горючим — и на котором остались целехоньки сургучные печати. Даже не подплавились.
«…Зато какой там цвет!»
Это, допустим, все мелочные придирки. Гильермо дель Торо — стилист и вообще Автор, а у хорошего стилиста сургуч и в адском пламени не расплавится. Проблема в том, что со стилем, в сколько-нибудь строгом смысле этого слова, во «Франкенштейне» не лучше, чем с фактурой. Можно создавать сколь угодно сложное, сколь угодно вычурно стилизованное пространство, — но оно обеспечит одну лишь стильность; за стиль же будет отвечать соответствие этому пространству разворачивающегося в нем действия — и выстроенного автором зрения камеры. Если совсем грубо — то, что и как играют актеры, и то, как это увидено. «Франкенштейн» с треском проваливается по обоим пунктам.
© Netflix
Действие здесь настолько несопоставимо проще, чем окружающий декоративный антураж, что свободно болтается в нем, словно сравнение-подберите-сами. Ох не в добрый час дель Торо решил воздать должное «Барри Линдону», умыкнув оттуда первую часть своего фильма (местами вплоть до точного копирования кадров). Визуальный перфекционизм Кубрика обеспечивал нехитрому вроде бы сюжету то таинственное напряжение, из-за которого каждый жест и каждый взгляд оборачивались чистым ритуалом. У дель Торо же мальчик, сидя на диване с немыслимо сложной цветовой обивкой, посреди сумрачных полотен и с тонко льющимся в окна светом, переживает о том, как ему не хватает мамы и как он обижен на папу. И это уже не придирка — это системная проблема. «Франкенштейн» Шелли на то и стал одной из базовых моделей хоррора (а потом был растиражирован в несметном количестве дешевых экранизаций), что прямо и последовательно проводит одну тему: сложную, основополагающую, но одну и внятную. А это означает, что он, собственно, не очень-то требует стилистических изысков. Романтический, напряженный, даже патетичный, — роман Шелли при всем этом образцово прозрачен и внятен. Такой материал, конечно, можно усложнить (любой можно), и нагрузить любым количеством тех самых изысков, и растворить тему в стиле (примерно это проделал Эггерс в «Носферату»), — но у дель Торо сюжет не растворяется в стиле и даже не поддерживается им, он от стиля полностью оторван, и этот разрыв порождает лишь пафос и путанность. Все детали многозначительны — и ни одна ничего не значит, просто не в состоянии что-либо означить. Для этого у стиля должна быть драматургия, хотя бы параллельная сюжетной, — со своими кульминациями и акцентами, соответствующими разработке темы. Принципиальная для всего сюжета сцена попытки воспитания Существа остается скомкана; другая принципиальная сцена зарождения любви и нежности дана столь же суетливой и приблизительной раскадровкой, что и все остальные, — без перемен света, цвета, темпа или крупности.
Что же до актеров, то писать рецензию на «Франкенштейна» стоило бы хотя бы ради одной-единственной фразы, которую больше никогда и ни при каких обстоятельствах, уверен, написать не доведется, и вот эта фраза: здесь плохо играет Кристоф Вальц. Если именно это должно служить доказательством того, насколько Гильермо дель Торо может достичь невозможного, — что ж, надо признать, это весомое доказательство. И дело, разумеется, не в Вальце. То, насколько плохо играют у дель Торо актеры (в том числе хорошие и даже очень хорошие), было известно и прежде; во «Франкенштейне» это всего лишь окончательно перешло грань приличия. Но что им поделать? Задачи, которые ставит перед ними режиссер, отмечены той же головокружительной неряшливостью, что и все прочее, и цельность персонажей от них требуется примерно та же, что у фэшн-моделей при смене нарядов на дефиле. Что делать, к примеру, чудесной Мии Гот в роли Элизабет, если она одновременно должна быть эмансипированной поклонницей естествознания, высокомерной нетерпимой моралисткой, лелеять идеал романтической любви и доверять предчувствиям? Какие-нибудь два пункта из этого набора совместить еще можно, три — уже не выйдет; если же их четыре, все, что остается актрисе, — не играть вообще ничего определенного. Просто произносить в разных сценах текст (как обычно у дель Торо, невыносимо банальный) с должной убедительностью. И это не особая сложность задач, к которой актриса оказалась «не готова»; о том, насколько дель Торо далек от того, что такое актерское существование, задачи и персонаж, можно судить хотя бы по тому, как Франкенштейн описывает своего отца (которого здесь, между прочим, играет тоже не кто-нибудь, а Чарльз Дэнс). А мы видели этого отца, притом видели из рассказа героя. Ничего общего. И это не сюжетный ход и не субъективный взгляд. Просто дель Торо не видит, что это поведение описывается не этими словами. Просто он, кажется, не знает, какими словами какое поведение описывается. Ну не его это.
«…Зато какой там цвет!»
© Netflix
Ладно. Давайте про цвет. А какой он, собственно?
Дель Торо вот уже который фильм подряд вскрывает любой материал одним и тем же бронебойным сочетанием: бордовый с уклоном в алый — холодная бирюза с уклонами в прусский синий и виридиан — янтарно-медовый с уклоном в охру. Дальше идут отдельные цветовые ноты, вроде прерафаэлитской рыжины у Мии Васиковской в «Багровом пике» или вуалей у обеих героинь Мии Гот во «Франкенштейне» (она здесь играет не только Элизабет, но и маму). Это хороший, без оговорок, безупречно эффектный блок колеров, вот уже полтора столетия обеспечивающий спрос на ориенталистскую живопись образца Жерома. Но в его эффектности и в его цельности есть подвох: он мало «реактивен». Он остается одним и тем же от фильма к фильму не потому только, что составляет «фирменный почерк» режиссера, — ему просто трудно меняться, и даже та самая рыжина Васиковской оказывалась ему несколько чуждой. И это тоже хорошо видно в начале «Франкенштейна», где дель Торо подлаживается под «Барри Линдона», — там нужны веджвудский голубой, мшисто-оливковый и розовая пастель пудры, а этих цветов у дель Торо нет и быть не может, поскольку с его базовой триадой им просто не ужиться. Это очень негибкая цветовая система, она агрессивна и оглушительна, — и именно она, именно ее оглушительность не позволяет самому автору увидеть разницу между эпохой динамита и эпохой париков или между романтической героиней и продвинутой эмансипе. Это паровой не то асфальтовый каток, которым разглаживается любой материал, превращаясь в нескончаемый поток приблизительных банальностей, утрачивающих возможность оттенков; как и тот самый ориентализм (или близкий по колерам фэшн-дизайн Кристиана Лакруа образца 1990-х), он настаивает на полной автономии созданного мира, в котором эстетическое оказывается равно экзотическому.
В том-то и дело. Пресловутый цвет в творчестве дель Торо — не добродетель, во имя которой можно простить дурную игру, чудовищный текст и смехотворную неразборчивость в фактуре; это скорее тиран, который ко всему этому приводит. Он не «сотрудничает» с другими элементами кинотекста, он ими даже не управляет, — он делает их неважными, в первую очередь для самого автора; говоря современным языком — «выученно-беспомощными». Гильермо дель Торо — не стилист, но дизайнер, и не визионер, но «визуал»; характеристики не из худших, пока речь не идет о какой бы то ни было эстетической претензии. Как явление киноискусства, его творчество почти не существует; как явление дизайна, где-то рядом с “Gucci” образца Алессандро Микеле или с поздними интерьерами Тони Дюкетта, — вполне правомерно и даже весомо. Как обои — и вовсе неоценимо.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Netflix
Заглавная иллюстрация: © Netflix
Читайте также: