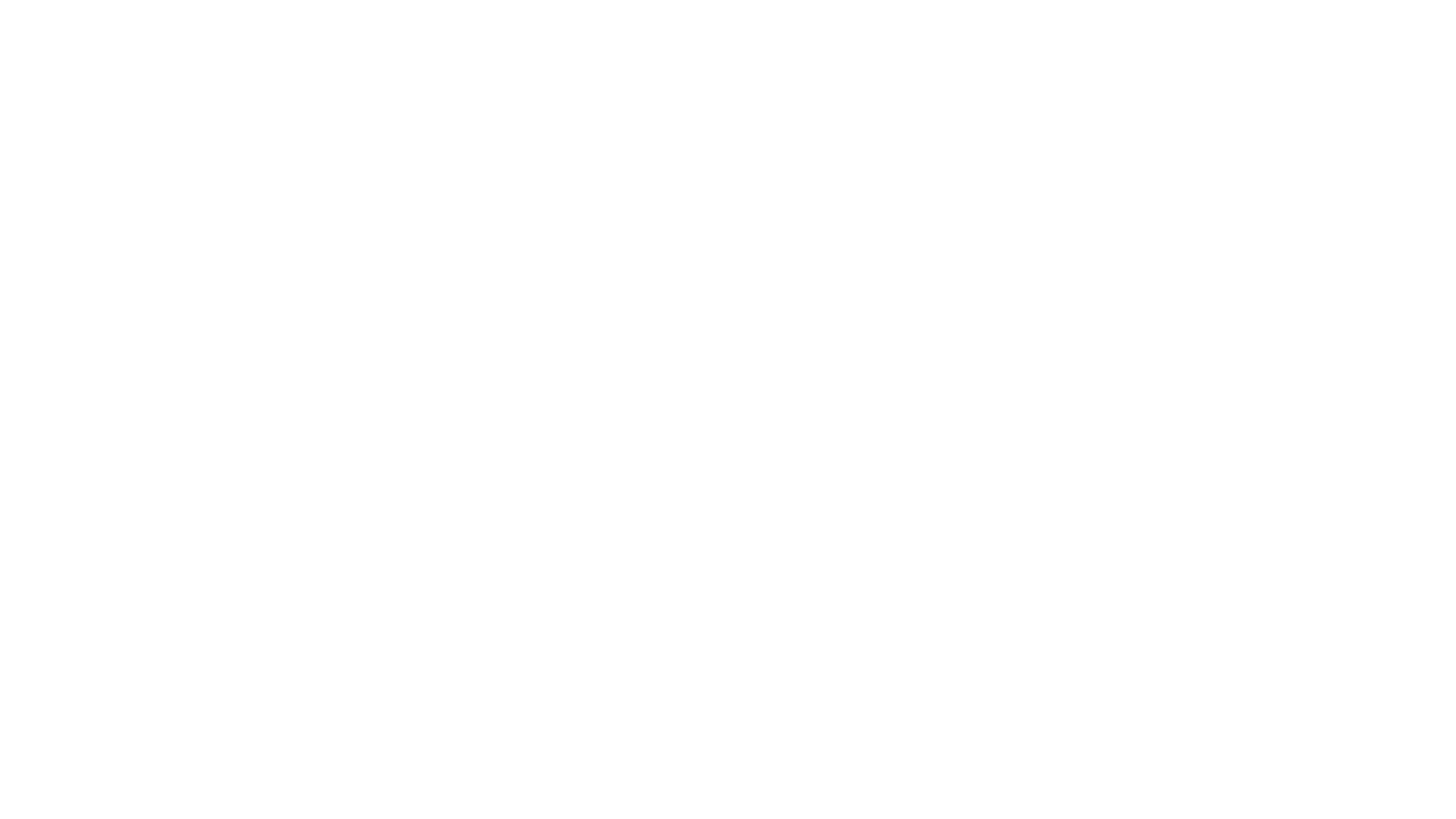| Вечно будто живые Алексей Гусев о «Горной невесте» Мауры Дельперо 27 апреля 2025 |
Премьера фильма Мауры Дельперо «Вермильо» («Горная невеста») состоялась в прошлом сентябре в Венеции, ныне он вышел на российские экраны — и за прошедшие полгода был всецело одобрен и восхвален, кажется, всеми. В Венеции он получил большой приз жюри, в Чикаго той же осенью — главный приз; критики писали о «стилистическом единообразии», «исключительной изысканности», «обманном формализме», «образной ясности», «почти божественной живописности», а, к примеру, Федерико Понтиджа, критик во всех смыслах достойный и высокообразованный, увидел в нем «драгоценную антизрелищность», ожидаемо проторив путь к фильму Дельперо от великого «Дерева для башмаков» Эрманно Ольми — с неожиданными виражами в сторону Филибера, Дуайона и Ханеке. И ничему — ну, почти ничему — из этого, кроме как по сущим мелочам, не возразишь (даже «живописность» с «антизрелищностью» вполне можно примирить, поскольку первая — задача и заслуга оператора, вторая же — режиссера). Фильм Дельперо выстроен на славу, славу и обрел. Умный, тонкий, спокойный; ни единого перекоса, ни малейшего сбоя… Во всем этом благостном обличьи тихого шедевра исподволь смущает лишь одно. Похоже, эта безупречность строя далась автору без малейшей натуги.
Время действия — 1945 год. Место действия — тот самый, заглавный городок Вермильо, затерянный среди гор северной Италии. Импульс к постановке, как говорит сама Дельперо, — смерть ее отца и стремление запечатлеть деревенский уклад времен его детства. Подход к постановке — обживание места, погружение в уклад, многомесячные разговоры с местными, многие из которых затем снялись в самом фильме. Центр же повествования — многодетная семья школьного учителя, где у каждого — свой характер, свои мечты, своя вина, короче, свой сюжет; в каждом из сюжетов есть своя драма, между ними — почти никогда. Все высказывают мнения, принимают решения, отвечают за последствия; строгость режиссерских решений наделила всех персонажей разумностью и всех лишила страстности. Кричат только при родах, ссорятся не больше чем на три реплики, не смеются вообще никогда. И хотя действие охватывает целый год, недаром одна из моих коллег завершила свою рецензию образом «зимнего солнца».
© MSP Film
В невозмутимом, графичном спокойствии авторской интонации, в экономности (эвфемизм для скупости) режиссерских средств, в прагматизме сюжетной конструкции и вправду есть что-то лютое.
Что-то, что не преодолело сопротивление материала, — как это всегда происходит даже в самых суровых, самых ригористских-минималистских режиссерских подходах, от Брессона и Дрейера до Пиала и вовсе Лозницы, — но выстудило его. Выморозило. Обезволило.
Наградное «антизрелищность» Понтиджи в оригинале — anti-spettacolare, буквально — «анти-спектакль». Понятно, что «буквально» — не значит «дословно», и уходить в сравнительную этимологию — морок зануд-профанов. Но уж больно ярок здесь эффект. При всей «живописности» работы Михаила Кричмана, при всем изяществе световых и цветовых решений, «Вермильо» — в первую очередь спектакль.
В одной из сцен учитель получает из города пластинку, и в ответ на сетованья жены — мол, дети голодают, а ты деньги транжиришь, — отвечает: это духовная пища, она тоже нужна. А наутро ставит пластинку ученикам на уроке: это «Времена года» Вивальди, и он комментирует первую часть «Лета» — вот, мол, щегол, а вот, слышите, горлица. Ученики с просветленными лицами согласно кивают. Интересно, почему. За весь фильм здесь не пела ни одна птица. Но ладно бы птицы: «а вот поднимается ветер», говорит дальше учитель. И ученики вновь кивают и светлеют лицами, и снова непонятно с чего. Ведь в фильме Дельперо, — посреди гор, год напролет, в крестьянской семье, — ветра тоже нет. Никогда.
© MSP Film
Пейзажам, снятым Кричманом, воздано восхищением по заслугам; но в этих пейзажах нет такой вещи, как погода. Не льет дождь, не печет солнце, не набегают тучи, — ничего, что можно было бы обозначить глаголом. Точно так же, как стоит персонажу договорить последнюю реплику сцены, как немедленно, в ту же секунду, следует монтажный переход к следующей: без воздуха, без тишины, без отголоска, будь то в мире или на лице. Точно так же, как все диалоги идут строго по делу, чеканными формулировками, без подходов к теме и соскальзываний с нее; в таверне болтовня массовки лишь обозначена гулом на заднем плане, и даже когда надо дать голос безымянным персонажам, то они высказываются в строгой очередности, не отклоняясь и не шумя почем зря: «1-й Крестьянин», «2-й Крестьянин», «3-й Крестьянин», — вот мы и выслушали, стало быть, общественное мнение, перейдем теперь к именным персонажам… Здесь вообще царит очень театральная вера во всесилие слова. «Как бы ты описал душевное состояние солдата?» — спрашивает в начале фильма школьный учитель своего ученика, прячущегося в деревне дезертира. «Ты будто жив, но на самом деле нет. Ты — это ты, но уже не совсем», — отвечает тот. «Он дома, но это больше не он», — говорит его мать в конце фильма. И этих двух вторящих друг другу реплик хватает (точнее, словно бы должно хватить) для того, чтобы разметить в системе мотивов еще и этот, про «пост-травматический кризис идентичности», — без поддержки образом, или разработкой персонажа, или хотя бы актерской игрой. Актерам, к слову сказать, тоже досталась своя доля похвал и восторгов, и не зря — они все тут работают безупречно. На тех, за исключением пяти-шести кадров, простейших задачах, что поставила перед ними Дельперо, — еще бы они не работали безупречно. Возможно, худшее, что можно сказать о работе Дельперо с актерами, — что она не оставила им ни малейшего шанса на ошибку. Тут просто не в чем ошибаться. Ничто не может помешать человеку в мире, где нет погоды.
За эпизод с «Временами года» Дельперо иные все же нежно попеняли: затаскано, мол, нехорошо, дурновкусие. Но и от них, и от не менее вопиющих ноктюрнов Шопена еще можно было бы отговориться «правдоподобием» — если у учителя в доме всего две пластинки и вот теперь появилась третья, вряд ли стоит ожидать, что на них записаны редкие мотеты Ди Лассо. Как можно, если постараться, отговориться и от предыдущего упрека: поскольку Шопен и Вивальди звучат на монтажных фразах с пейзажами, они, дескать, и есть те самые шумы природы, просто в рамках общей режиссерской стилизации (хотя это оправдание — в прямо противоположной предыдущему логике). Но этот же самый эпизод выявляет еще две проблемы фильма Дельперо. Во-первых, всякий раз, когда в фильме начинает звучать музыка Шопена или Вивальди (а таких случаев тут четыре — два по два), автор до смешного не знает, как ее остановить: два раза та неуклюже теряется где-то — приблизительно — в начале следующей сцены, третий раз учитель останавливает пластинку, четвертый же уходит в финальные титры. (Разве что с прекрасным Miserere Антонио Муша Дельперо справилась вполне.) Что означает, что — при всем своем конструктивном таланте — автор никак не смогла сделать музыку органичным элементом своей драматургии; даже когда само звучание (скорее тембр, чем гармония) играет сцене «на руку», строй музыкального текста идет вразрез со строем фильма. А во-вторых, опять же, всякий раз, когда звучит закадровая музыка, монтаж внезапно обретает — довольно грубо, но тем более явно — и ритм, и энергию, и оттого кадры начинают приобретать образный строй, и резкость барочного перепада с piano на forte отражается в жестах и крупностях, — и становится видно, насколько не хватает, при всех изысках светотени, этого самого образного строя (то есть шанса на смысл) миру фильма в целом, насколько одна лишь музыка может отвлечь автора от его резонерствующих крестьян, и насколько же на одном непрерывном, неизменном mezzo-piano простроен весь остальной фильм, что бы в нем ни происходило.
© MSP Film
Вольнó ставить в заслугу фильму «стилистическое единообразие» (с тем же успехом, право же, его можно обнаружить в партии Наины). Но эта безвоздушность фильма, которая ему вроде бы так «к лицу», не только отменяет смысл в угоду резону и образ в угоду изображению. Здесь нет, не остается места ничему «неважному», — более того: здесь нет ничего «более» или «менее» важного, никакой градации, никакого рельефа сюжетного хода. Интонация фильма превращает все происходящее в ровную, чистую, бестрепетную, ни одним дуновением, ни единой случайностью жизни не поколебленную горизонталь, и лишь нехитрые приемчики Вивальди пытаются ее дефибриллировать: хоть как-то, хоть на несколько секунд, хоть всего лишь дважды за два часа экранного времени… Ах, наверное, даже правильно, что использование Вивальди выглядит в фильме Дельперо дурновкусием. Именно так и должен выглядеть человеческий мир с точки зрения божественной ясности. Или лето — с точки зрения зимы.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © MSP Film
Заглавная иллюстрация: © MSP Film
Читайте также: