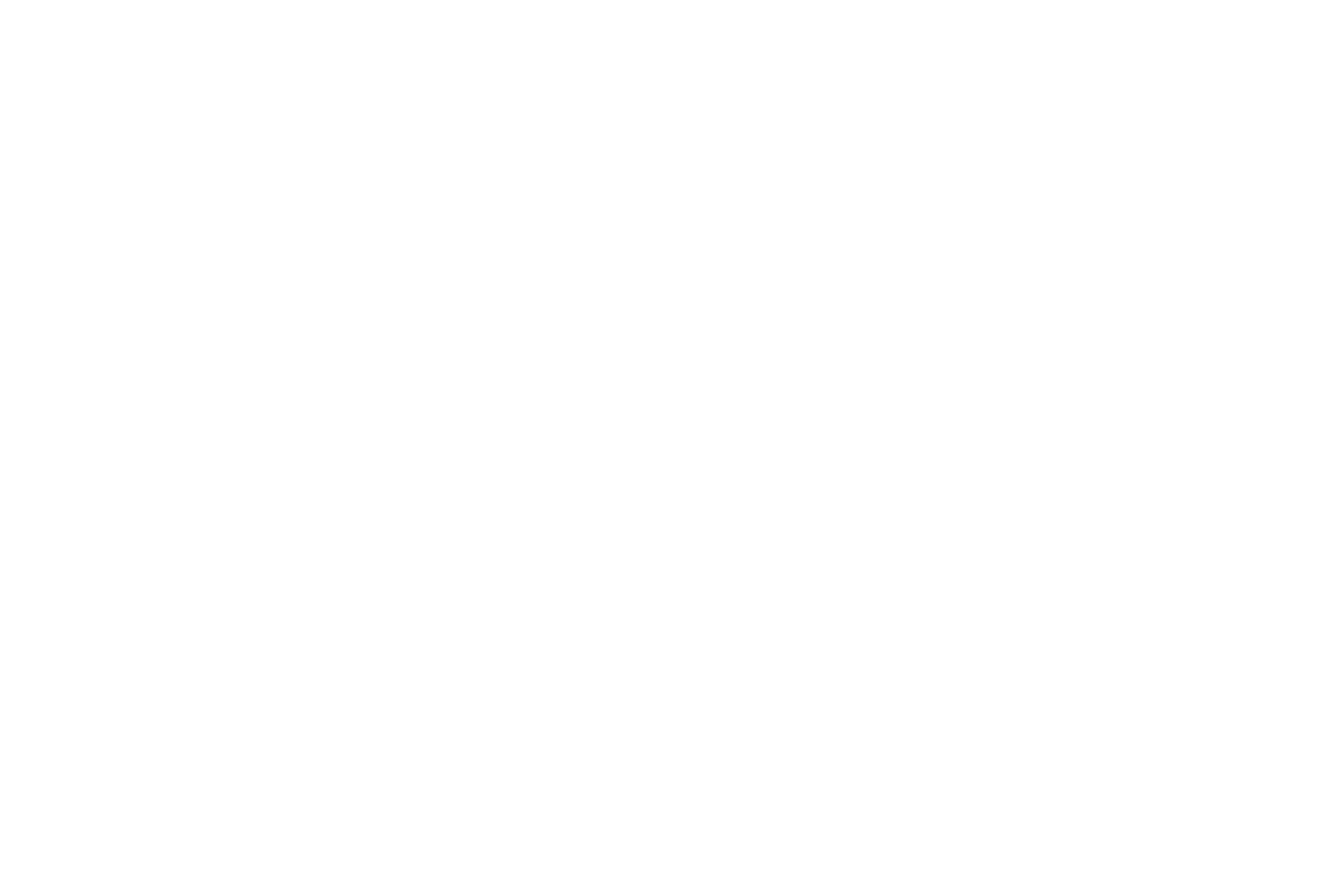Операторы связей «Графит» Антона Пимонова и Владимира Горлинского в «ГЭС-2» 25 мая 2024 |
Союз непохожих
«Графит» как проект придумала Анастасия Прошутинская — куратор, которая долго работала с независимыми командами и сейчас возглавляет направление современного танца в Доме культуры «ГЭС-2». Одним из ее больших проектов в «ГЭС-2» стало «Озеро» Альбины Вахитовой — постановка, имевшая во всех смыслах подвижную структуру. Танцовщики осваивали длинную полосу Проспекта, рассыпались по ней, образовывали рисунки из тел. Зрители могли смотреть за ними с четырех сторон, наблюдать сверху или перемещаться.
Опыт посчитали удачным и решили продолжать. Как нового союзника Анастасия Прошутинская выбрала балет — искала то, что вольется в масштаб здания. Из архитектурных особенностей ГЭС — здание электростанции выбелили на манер галереи современного искусства и оставили видимым его индустриальный каркас, многочисленные железные переходы — появилась мысль о танце, который акцентирует линию. Неоклассический балет подошел на эту роль: сосредоточенность на теле как графическом элементе, постоянное освоение пространства через геометрически построенные ансамбли, понимание живого мышечного каркаса как подвижного «здания», состоящего из суставов, сухожилий и мускулов. В интервью Прошутинская рассказывала о том, что искала хореографа, который интересовался бы чистыми формами движения. Так в проекте появился Антон Пимонов, который понимает неоклассику как минус-позицию, сознательное ограничение средств выразительности ради поиска сущности движения. Третий партнер, труппа Урал Балета, возник естественным путем — как те, кто способны станцевать авторский балет вне сцены-коробки и освоить новую музыку.
Обнажение приема
«Графит» начинается почти по-домашнему — с публичной разминки. Прямоугольник покрытия, отделенный светодиодными трубками, условной границей ринга, от остального пространства Проспекта «ГЭС-2». Вокруг рассаживаются зрители — как умеют. Стулья не полагаются. Кто-то стоит у железных балок. Кто-то устраивается в кофейне, которая находится в нескольких метрах от не-сцены. Самые смелые рассаживаются на полу, у ног артистов, — первый ряд балетоманов никогда не был так близок к возможности увидеть все. Когда танцовщицы и танцовщики в простых вещах — художник по костюмам Елена Трубецкова создала вроде бы неприметные полуприлегающие спортивные штаны, лосины, плотные шорты с высокой талией, лонгсливы, кроп-топы, все «рабочего» матового темно-синего цвета с разноцветными микролампасами — выходят к аудитории, кажется, что это не сцена и зрители, а очень населенный класс. Уральцы, которые садятся на пол и начинают мягко разогревать суставы, растягиваться, проверять и завязывать туфли, и зрители, устроившиеся рядом с ними, выглядят как огромная разношерстная труппа. Кто-то уже оделся в репетиционное и начал. Кто-то ждет свою очередь на полу под станком, обычном месте для балетных «на скамье запасных».
Из-за простоты действий — артисты должны быть естественными, играть, что они не играют и действительно готовятся к показу, обсуждают детали и исполнение, вместе проходят в полноги сложные места, чтобы их утрясти и скоординировать, — начало можно воспринимать как настройку оркестра. Подготовку к «настоящему» выступлению. А можно — как пролог. Вход в мир, где балет покажет теневые стороны. Приглашение увидеть артистов как людей, которым требуется подготовка к выходу, пространство между бытовым и рабочим модусом.
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
В то же время разминка — театральный жест, обнажающий прием «жизнь как часть искусства». В «Графите» нет кулис — в открытом пространстве «ГЭС-2» им неоткуда взяться. Спектаклем становятся любые действия артистов от третьего звонка до финальных аплодисментов. Чтобы подсветить это, Пимонов выстроил двухуровневую конструкцию, в которой солистки и солисты Урал Балета танцуют самих себя, исполняющих премьеру балета «Графит» в «ГЭС-2», — ход остроумный и освобождающий. Перед нами — и артисты, и люди. Совсем такие же как мы. Только их место работы — театр оперы и балета.
Не-движение как часть постановки — прием, который придумал не Антон Пимонов и который возник не в 2024 году в «Графите». Если мы задумаемся, то вспомним, что видели это неоднократно — особенно в классике. Солисты отправляются в блистательное адажио. Кордебалет рассаживается по периметру и ждет свой выход. Обычно незанятые танцовщицы и танцовщики превращаются в деталь вроде красивого пера на опахале или тщательно прописанного задника. Балет предпочитает не замечать эту свою часть. Даже в спектаклях, где запасные танцовщики становятся важной частью постановки, наблюдателями, например, The Second Detail Уильяма Форсайта, мысль «что делают артисты, когда не танцуют» не проблематизируется. В «Графите» — возможно, впервые — не-действующие артисты показаны как живые люди.
Пимонов выстраивает целую систему не-действия — от привычных, часто возникающих на сцене, но невидимых жестов до скрытых, подразумеваемых. Сколько раз вы видели, как артисты пытаются отдышаться после сложных элементов? Как минимум столько, сколько аплодировали между танцами. А сколько раз вы видели, как танцовщики ловят дыхание без аплодисментов? Еще больше. Но внимание, вероятно, не задерживалось на этом. Балет состоит из огромного количества серых зон, условностей, которые принято не замечать.
В «Графите» такие казалось-бы-мелочи, как тяжело вздрагивающие грудная клетка и плечи, акцентируются. Они — равноправный элемент спектакля, как легкий прыжок или «дорожка» на пальцах. И, как самый привычный для зрителей, распространенный и притом обычно невидимый элемент, они возникают в спектакле первыми.
Траекторию драматургии «Графита» можно проследить по тому, из чего состоит не-действие. Сперва артисты просто отходят в сторону, к краям покрытия, и дышат. Потом — расслабляют шеи, мягко проверяют и держат теплыми суставы, например, стоят и крутят ножку на пальце, качают ею туда-сюда: второй уровень доступа. Третий — самый интимный: танцовщики рассаживаются на пол рядом со зрителями так, как они ежедневно устраиваются под станком на репетициях. Мягко стекают мышцы корпуса, чуть идут вперед гордые ровные шеи, осторожно потряхиваются колени — снять напряжение. Это максимальная степень близости в постановке — возможности увидеть то, как выглядят артисты за сценой. В финале Пимонов смешивает танец и не-движение, окончательно уравнивает их. Танцовщики после насыщенного ансамбля с точными и сложными перестроениями рассыпаются в неровный хоровод — и восстанавливают дыхание со сброшенными плечами и понурыми головами. Момент человечности, который остается под софитами, соединяет усталость реальных людей и состояние их сценических персон.
Команда «Графита» размышляет о связях. Не-действие — один из манифестных моментов этого процесса. Проваленные внутрь грудные клетки, мягкие согнутые шеи, возможно, удивили тех, кто не видел артистов после насыщенной репетиции или спектакля. Они же всегда гордо плывут, прорезая пространство вытянутыми лебедиными шеями, сверкая королевской осанкой? Как же нет? Тут же наглядно демонстрируют, из чего балет состоит мнимо, а что обязательно для существования.
Чем отличаются тела балетных артистов от тел обычных людей? Формой? Линиями? Умением не горбиться? Да, но нет. Мышечными корсетом, его простроенностью и проработаностью? Да и да. Простая мысль — танцовщики могут позволить себе кривиться, потому что натренированы так, что мгновенно активируют режим «все в себя, вытянулись в струнку и пошли», — здесь становится иллюстрацией. Есть связи внешние. Опознаваемые, но не описывающие суть явления. И есть глубинные. Они могут быть не видны сразу, но держат конструкцию. Как мышцы, которые помогают вовремя собраться и царственно выйти на сцену.
Приближение
Важная часть «Графита» — близость постановки к аудитории. Тут Антону Пимонову помогло здание «ГЭС-2», открытое, белоснежное, широкое — и при этом очень камерное. «Графит» расположился почти ровно посередине Проспекта, будто в глазе урагана. Там, где спектакль виден всем — и где легко подойти к нему близко. Зрители и танцовщики здесь равны — как аудитория и перформеры в современном танце. Даже визуально зрители становятся частью «Графита», самыми не-действующими участниками. Теми, за кем, как и за артистами, наблюдают другие: сверху, с другой стороны, на ходу, со сцены.
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
Резкое сокращение дистанции — и испытание, и благо для всех сторон. Испытание — потому что для артистов, которые привыкли к «подушке безопасности» из кулис, портала, оркестровой ямы, размера помещения, необходимость выйти к аудитории даже не на расстоянии пары метров, а в десятках сантиметров уже риск, стресс и новые условия. Слишком близко, слишком видно. Однако и для зрителей ситуация необычна. В «ГЭС» собрались не столько балетоманы, для которых новые обстоятельства — часть драйва или формальной конструкции. «Графит» показывали с минимальным входным барьером, по бесплатной регистрации. Спектакль мог застать любой, кто попал в здание, — и неожиданно, возможно, познакомиться с балетом.
В «Графите» распалась обычная для классики программируемость встречи. В театре, особенно в Урал Балете, образцовом городском театре с нежной и преданной публикой, спектакль — это встреча Артистов и Зрителей. В «ГЭС-2» возникла скорее встреча людей с людьми — одинаково не полностью подготовленных к контакту, не знающих, что ждать друг от друга, но заинтересованных в опыте.
Сегменты не-движения, которые придумал Пимонов, едва ли не важнее танца. Это — зоны, где люди, которые пришли в «ГЭС», встречают людей, которые работают балетными артистами. Они сидят в сантиметрах друг от друга, похожи телесно и жестово. Это измерение, которое балет обычно не обретает — в том числе потому, что идеальность, далекость, гипертрофированность, пришедшие из XVIII и XIX веков, до сих пор в деле. Балет рождался в эпоху, когда на сцене ожидали богов и героев. Через три столетия балет все так же остался в супергеройской эре. Ближайший современный аналог масштабности и мышления классики — это Marvel и DC с фантастикой, архетипами и строгой структурностью.
Но время героев давно прошло. Может ли балет жить вне недосягаемости, хотя бы пробно спуститься с пьедестала? Ключевая ли это связь? «Графит» вступает на территорию очеловечивания — и показывает, что, сняв сияющую броню идеала, классика остается собой. Несущая конструкция — не отдаленность и дистанция, а что-то, что нам всем предстоит отыскать.
Эррор-код
Еще одной важной частью «Графита», дополнительным уровнем откровенности и доверия к себе и публике, стала запрограммированная нечаянная порча рисунка. На первый взгляд это оксюморон. Возможно ли предусмотреть случайные сбои в танце, для которого строгость, точность, дисциплина это родовые свойства? Однако Антон Пимонов включился в игру и, с одной стороны, высветил, как балет может впустить в себя современное, более гуманное, бережное отношение к себе и к людям. С другой — предложил зрителям подкрутить реакции в ту же сторону.
Идея проста: исполнители получили право ошибаться. Некритично, не получая травм, не искажая хореографию. Мазнуть чуть мимо позиции, неидеально приземлиться, едва заметно не выровнять линию. Самая крупная порча — нарочито криво уроненная вперед голова танцовщицы, резкая крюкообразная линия шеи там, где ее всегда выравнивают до нежной тонкой единой линии от затылка до носка пуанта. Ее Пимонов ставит, «усаживает» в конкретное место и превращает в один из главных мотивов вариации. Небольшие сбои, как ниточки-дырочки-петельки на одежде, он свободно рассеивает по композиции.
Отличаются ли предзаложенные ошибки от нечаянных? Да. Во-первых, артисты хорошо знают хореографию и подпускают порчу в разных местах. Во-вторых, быстро и мягко справляются с микро-ошибками, выдерживают стресс- и мастерство-тест.
© Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
Рандомизированная россыпь помарок сперва выглядит нервно — сбились, нехорошо — а потом отдает приятным расслаблением. Это люди. Живые. Они могут устать, переволноваться или сбиться потому, что сидящие под ногами зрители сверкнули телефоном. Несмотря на это, они — отличные танцовщики, которые привыкли к авторской хореографии, новой музыке, сложной геометрии и ритму. Готовые рискнуть комфортом и подойти к аудитории многократно ближе, чем обычно практикуют, и выдержать это.
Балет и современный танец принципиально отличаются в подходе к ошибкам. Первый требует перманентного совершенства и видит любые сбои как неудачи. Второй не обращает внимание на помарки, впускает их в себя. Не ошибается тот, кто не делает — на это давно опирается современный танец. Но и балет со своей дисциплиной может попробовать. Как минимум потому, что способность спектакля на пару мгновений распасться не предотвратима. Заложив ее как вероятность, приняв заранее, балет накачивает еще одну стабилизирующую мышцу.
У Урал Балета длинная история отношений с помарками, запланированными и случайными. 12 лет назад, когда началось его путешествие в мир балетных лидеров, коллектив не отличался устойчивостью — иногда буквально. Но время, когда Урал Балет ошибался из-за недостаточности тренинга, ушло. Сейчас это одна из ключевых трупп в стране. Артисты Урал Балета умеют чутко примерять на себя сложную авторскую хореографию, становятся союзниками хореографов, а не их учениками или недоверчивыми носителями. Способность работать с созданными на них спектаклями — фирменный знак.
Еще одна марка труппы — профессиональная работа с ошибками. Она началась еще в ранние самодуровские годы. В «Вариациях Сальери» классический балет уставал от себя — правил, требований — и разваливался на глазах. Тогда коллектив работал с яростно сформулированной деконструкцией танца, искал, каким должно быть движение, чтобы сбой стал приемом.
Сегодня управляемую ошибку можно назвать ДНК труппы, ее подписью — и Антон Пимонов в «Графите» предложил и новую хореографическую трактовку этого приема, и новую идею, которая может стать за ним. Уральцы могут позволить себе манифестивно показать на сцене, что любые артисты не застрахованы от «брака», что любой спектакль может быть нарушен мелкими помарками. Потому что сила состоит не в том, чтобы никогда не промахиваться. Она — в укрощении досадных мелочей, готовности к ним. Возможности продолжить дальше, не сбиваясь.
Балет разрушаем. В том числе потому, что его исполняют очень натренированные, но живые люди. Давайте это наконец признаем. Лучшие отличаются тем, что знают, в чем их особость, не пытаются игнорировать реальность, делают ее частью своего мира. Простая мысль в целом. Для балета — почти что революция гуманизма и стойкости в одном флаконе.
Текст: Тата Боева
Заглавная иллюстрация: © Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
Заглавная иллюстрация: © Аня Тодич/Дом культуры «ГЭС-2»
Читайте также: