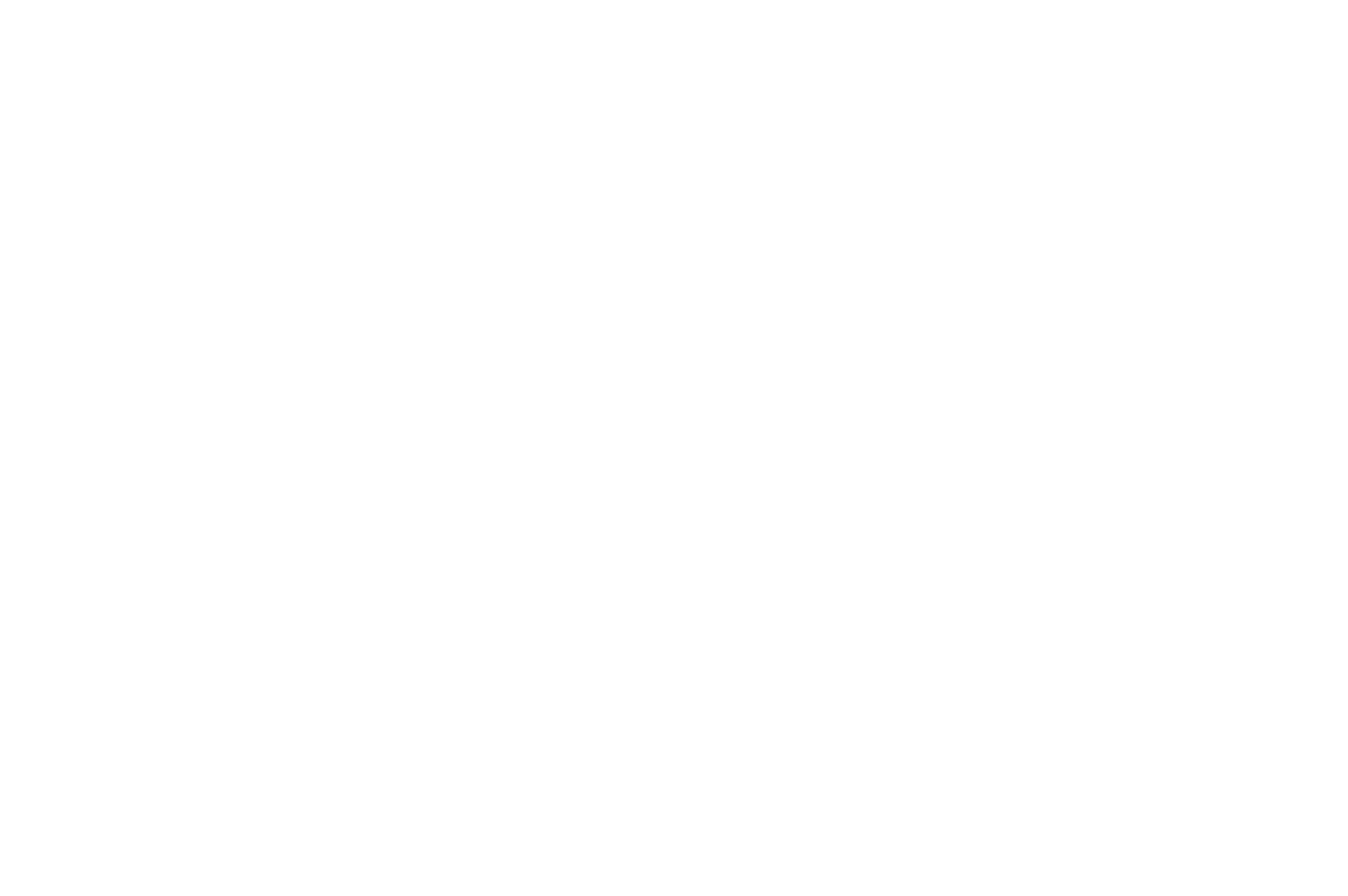Возвращение «чертовой дюжины» «Группа «13». В переулках эпохи» в Музее русского импрессионизма 1 марта 2024 |
«Отчего, когда вы оканчиваете некоторые книги, когда опускается последний раз занавес после некоторых пьес, кроме чувства растроганности, ужаса и восхищения (сообразно характеру произведения), у вас пробуждается легкая грусть разлуки, словно уехали милые, любимые люди?» — этим вопросом Михаил Кузмин начинает свою статью «Живые люди и натуральные», где противопоставляет натурализм реальности искусства. Этот вопрос довольно точно описывает чувство, которое оставляет выставка «Группа «13». В переулках эпохи» куратора Надежды Плунгян в Музее русского импрессионизма. На выставке будто попадаешь в дружеский круг, где музицируют, рисуют, читают стихи, могут подтрунивать друг над другом, но за шутками и шаржами проступает общая преданность искусству и то легкое дыхание жизни, которое так естественно в детской игре и так редко в занятиях взрослых.
Эта камерная интонация, изящество импровизации неожиданны для большого проекта, собравшего работы из семнадцати музеев России и собраний четырнадцати коллекционеров. Отчасти этот лирический «нерв» выставки задан самими работами — прежде всего идеолога и лидера группы Владимира Милашевского, его друзей Николая Кузьмина, Даниила Дарана, для которых рисунок стал родом партитуры, схватывающей музыку жизни. Все четверо имели разнообразный художественный бэкграунд (от саратовского Боголюбовского рисовального училища, академических штудий, от которых сводило скулы, до школы Петрова-Водкина и мастерских «мирискусников») и сходный способ заработка в настоящем. Они рисовали для газеты «Гудок», профсоюзного издания железнодорожников, которое для постнэповских 1920-х значило примерно то же, что «КоммерсантЪ» для постсоветских 1990-х. Среди авторов фельетонов были Катаев, Олеша, Булгаков, Ильф и Паустовский. Последний вспоминал о «Гудке», что там «сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве». А среди авторов иллюстраций были как раз Милашевский, Кузьмин, Даран — все родом из Саратова и окрестностей. В отличие от литераторов Милашевский о работе в газете позже писал без ностальгии, скорее, с горькой иронией: «В двух словах: требуется сделать рисунок с безукоризненностью «Гибели Помпеи» или «Медного Змия», и к тому же в три дня за оплату стоимости трех обедов в дешевой столовой. Горькое, скудное, унизительное время…»
Между «Гудком» и музеем
При том, что соблазнительно было бы связать «скоропись» газетных зарисовок с тем особым чувством времени, которое воспитывали в себе художники, работавшие для «Гудка», похоже, «мостик» этот выглядит слишком шатким. Дело не только в том, что ни Милашевского, ни Кузьмина, ни Дарана явно не привлекали медийные сюжеты, где в фокусе внимания оказывались бы знаковые приметы «нового», будь то фабрика-кухня, борьба с неграмотностью или сходящие с конвейера первые советские «ЗИЛы». Даниил Даран увлеченно рисует акробатов, репетиции в цирке и балерин, превращая своих персонажей в полувоздушные видения. Николай Кузьмин в родном Сердобске, куда он увлекает на лето и приятеля по «Гудку» Милашевского, пишет гуаши с лесными лужайками, лошадкой, мирно щиплющей травку под холмом, или набрасывает акварелью купальщиц, заставляющих вспомнить античных нимф. Милашевский же в Сердобске рисует то Кузьмина на пригорке с альбомом и кистью на фоне практически вангоговского пейзажа, хоть и тушью созданного, то пастуха со стадом коров, отдыхающих на лужайке. Рисунок этот впечатляет не столько ленивым покоем жаркого полдня, сколько уверенной точностью, выдающей хорошее знание старых мастеров.
Очевидно, что друзей мало волновали как будущее советской тематической картины, так и авангардистские поиски футуристов, конструктивистов или адептов «производственного искусства». Словом, ни актуальность темы, ни формальная новизна языка их не занимала.
© Музей русского импрессионизма
Другое дело, что размышления о времени, его «шуме», ускорении, диссонансах, которые выглядели в 1920–1930-х стержневым сюжетом многих искусств, причем не только в России (например, в фильме Вальтера Рутмана «Берлин — симфония большого города» или повести Валентина Катаева «Время, вперед!»), побуждали к тому, чтобы определить отношение своих собственных работ с этой неуловимой подвижной материей. Одно дело — литература, музыка, кинематограф, где произведения развиваются именно во времени. Другое — рисунок, живопись, скульптура, что запечатлевают пространство, вещи, людей, сохраняя их облик неизменным. Художники группы «13», в сущности, попробовали превратить рисунок в род временнóго искусства. И тут выбор у них был невелик. Они не могли опереться на литературу и ее сюжеты — там маячили тупики исторической картины и попытки передвижников вырваться из нее в социальные темы. Кинематограф сам еще искал свой путь. Оставалась музыка.
Речь шла не о том, чтобы создавать цветомузыку, о чем мечтал, например, Скрябин. Идея была в том, чтобы процесс рисования мог «исполняться», как музыкальная пьеса виртуозом. Предельно внятно это сформулировал Владимир Милашевский: «Мы научились любоваться не только изображенным объектом, но и самим временем исполнения рисунка. Чем-то таким, что было свойственно исполнителю музыкального произведения. Чувство темпа! Мы чувствовали необходимость вернуть рисунок к его первооснове: к движению руки, проводящей черту, оставляющей след!».
Но быстрый темп рисования, скорость, твердость руки и верность глаза требовали, с одной стороны, постоянной «тренировки». С другой — абсолютного владения кистью, виртуозности. И тут их опорой оказалось современное французское искусство рубежа веков. Получается, что художники группы «13» вышли вовсе не из прокуренных коридоров редакции «Гудка», а из парадного подъезда музея. Точнее — подъезда бывшего особняка Ивана Абрамовича Морозова, где располагался Государственный музей нового западного искусства, объединивший коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова.
Конечно, не этого одного музея. Куратор Надежда Плунгян, которая помещает рисунок Владимира Милашевского рядом с речным пейзажем ученика Рембрандта Абрахама Фурнериуса, а акварели со сценой сенокоса в Сердобске — с монохромными рисунками крестьянок Жана-Франсуа Милле, позволяет увидеть, что не одни только Дюфи, Дега, Тулуз-Лотрек, Ренуар вдохновляли художников группы «13». Этот контекст искусства старых мастеров, равно как и европейских художников XIX века, намеченный внутри экспозиции, отнюдь не прихоть куратора, а способ приоткрыть внутреннюю лабораторию художников, засвидетельствовать их «личный диалог с историей живописи».
В любом случае для художников «13» путь к современности, к открытию в рисунке временнóго, музыкального измерения, лежит через музей. Не самый очевидный путь в эпоху, когда старая культура летела с корабля современности за борт. Как бы то ни было, готовя свою первую выставку, художники атаковали с просьбой посмотреть их работы не кого-нибудь, а Бориса Терновца, тогдашнего директора Музея нового западного искусства, отличного знатока новейшей французской живописи. Выбор оказался точным. Терновец оценил «общий отблеск культуры и вкуса», «воспитанного на знакомстве с мастерами Запада, в частности, Парижа». Он написал статью для каталога первой выставки 1929 года (кстати, факсимиле того каталога стало вкладышем в любовно изданный каталог нынешней выставки). Словом, Терновец стал тем Державиным, который благословил «новую художественную группировку», «быстрый и возбужденный язык которой, не всегда, быть может, четок и внятен, но служит отражением своего, яркого и горячего восприятия жизни».
© Музей русского импрессионизма
«Чертова дюжина» рисовальщиков
В той первой выставке в Доме печати в Москве участвовали 13 художников, и это выглядит вполне логичным объяснением названия группы. «Комитет выставки», в который вошли Владимир Милашевский, Николай Кузьмин, Даниил Даран, пригласил к участию в проекте, кроме своего коллеги Сергея Расторгуева выпускников ВХУТЕМАСа Татьяну Лебедеву (которая станет известной как Маврина), Льва Зевина, сестер Нину и Надежду Кашиных, Михаила Недбайло, Бориса Рыбченкова — плюс уже весьма известного художника из Саратова Валентина Юстицкого, плюс ленинградцев из круга поэта Михаила Кузмина актрису Ольгу Гильдебрандт-Арбенину и писателя Юрия Юркуна, которые были известны среди литераторов, но не художников.
Но похоже, что идея «чертовой дюжины» появилась прежде, чем сложился состав авторов первой выставки. Во всяком случае Татьяна Маврина, вспоминая о своем появлении в группе «13», замечает: «Понравилось и название предполагаемой выставки графики в Доме печати — «13». Что-то бодлеровское. Интересно и даже восторженно-хорошо — «13» — чертова дюжина. Несчастливое роковое число, все его боятся, а тут на афише — «13», на каталоге — «13», в статьях — «13». «13» — пусть принесет счастье на этот раз!» Иначе говоря, название предполагаемой выставки определило количество участников, а не наоборот.
Упоминание о Бодлере выглядит логичным для художников, увлеченных французским искусством. Но и «чертова дюжина» в названии, и Бодлер подчеркивали особость выбранного пути, нежелание шагать в ногу с эпохой грядущего и наступившего уже коллективизма. «Комитет выставки» не искал поддержки у властей, художники сами издавали каталог, выбирали помещение — и фактически, как подчеркивает куратор, выступили как независимое объединение художников.
Причем объединение это происходило не на основе деклараций об общности идеологической платформы или поисков нового языка (как, например, в группе ЛЕФ, «Октябрь» или их оппонентов из Ассоциации художников революции, «ахровцев»). Для группы «13» отношения единомышленников, коллег были важнее отношений с властью. Это подчеркнет Татьяна Маврина: «В 1929 году мне повстречались интересные люди, именно люди, а не художественное кредо, платформа, течение, направление. (Всего этого в те годы было много). Это были графики из Дома печати в Москве. Были они старше меня, современники тех поэтов и писателей, которыми я зачитывалась до ВХУТЕМАСа».
© Музей русского импрессионизма
Неизвестно, был ли среди поэтов, которыми зачитывалась юная Лебедева (Маврина), Михаил Кузмин, но именно квартира Кузмина, где бывали и историк искусства Эрих Голлербах, и хранитель отдела гравюр Эрмитажа офортист Георгий Верейский, где за круглым столом начинали рисовать Юрий Юркун и Ольга Гильдебрандт-Арбенина, «сильфида», актриса и муза поэтов, сыграла важную роль в формировании группы «13».
Дело не только в том, что Милашевский приглашает участвовать в выставке «любителей» Юрия Юркуна и Ольгу Гильдебрантд, словно подчеркивая, что непосредственность художественного отклика на реальность не менее важна, чем профессионализм. Дело не только в атмосфере ленинградских вечеров в квартире Михаила Кузмина, на которые собирались художники, писатели, поэты.
Как проходили вечера у Кузмина, дает представление акварельный рисунок Владимира Милашевского, сделанный белой ночью 1932 года. Распахнутое окно, в которое веет прохладный воздух июньской ночи, видны крыши соседних домов. Хозяин музицирует за роялем. Его слушают две прелестные женщины, одна из которых — Ольга Гильдебрандт, сильфида с модной спортивной стрижкой в стиле ар деко, другая — жена Милашевского. На стенах — картины, на рояле — вазы с цветами. И, кажется, Серебряный век еще длится. Но в рисунке нет и следа пассеизма мирискусников. Автор рисунка Владимир Милашевский, подписывая акварель, указывает дату 18 июня 1932 года. Рисунок включает автора в эту сцену, делает его не свидетелем, а участником дружеского интеллектуального сообщества.
Как ни странно, этот рисунок, словно бы сделанный «для себя», но точный по композиции, интерьеру, характерам, дает почувствовать, почему петербургский поэт Михаил Кузмин так важен для понимания московской группы «13». Их объединяла не ностальгия, не пассеизм, а то понимание искусства, о котором Кузмин напишет, например, в статье «Крылатый гость, гербарий и экзамены»: «Безумно думать, что в безвоздушном пространстве существуют вечные, чистые формы. Безумно думать, что есть какие-то современные формы для формы, не вызванные органической внутренней необходимостью. Сегодняшние искания для исканий завтра устарелая ветошь. (…) Да, о вéщей способности воспринимать, предчувствовать, ясно видеть раньше, чем это выразить, — забыли. Мы подходим к основному началу всякого искусства... (…) Искусство — эмоционально и вéще. Сначала возрасти сумму восприятий и ясновидения — потом ищи средства изобразительности».
Быстрый рисунок Милашевского — как раз «способ воспринимать, предчувствовать, ясно видеть раньше, чем выразить». Рисунок оказывается почти музыкальной сюитой, он растет вместе с произведением, которое исполняет хозяин дома на рояле. Слух и зрение, музыка и рисунок связаны неразрывно, как исполнение и восприятие. Это даже не лирический дневник, это способ проживания каждого мгновения как восхитительного откровения бытия.
© Музей русского импрессионизма
Нетрудно заметить, что понимание искусства как восприятия и «ясновидения» (в случае живописцев, похоже, это умение ясно видеть понимается практически буквально) идет вразрез не только с символистами, но и с утопиями беспредметников, не говоря уж о соцреалистов. Этот отказ от магистральных путей в пользу «переулков эпохи», — сознательный взвешенный выбор того, что Кузмин назовет «высоким и горьким жребием» художника.
Жребий брошен
К 1932 году, когда Милашевский делает рисунок белой ночью в квартире Михаила Кузмина, организация второй выставка «13» закончилась расколом группы и борьбой за сохранение названия за отцами-основателями Владимиром Милашевским, Даниилом Дараном, Николаем Кузьминым. Впрочем, каталог второй выставки все же вышел.
Третья выставка 1931 года предложила новый состав авторов. Николай Кузьмин, который занимался подготовкой проекта, теперь сделал ставку на мэтров, пригласив к участию Надежду Удальцову, Александра Древина, Антонину Софронову, Чеслава Стефаньского, Давида Бурлюка. Из вхутемасовцев прежнего состава остались Маврина и Рыбченков. Из новых выпускников к ним присоединились яркий живописец Роман Семашкевич и график Сергей Ижевский.
На первый взгляд, между живописью Софроновой, Удальцовой, полотнами Древина, Семашкевича и акварелями и рисунками тушью, пером и даже спичкой героев первой выставки немного общего. Поразительные «текучие» пейзажи Алтая, созданные Древиным, мощная, почти экспрессионистическая живопись Романа Семашкевича, строгая «парижская» интонация в московских пейзажах Антонины Софроновой, казалось, живописали не столько текучесть времени, сколько пластику вечности. Но в качестве общего знаменателя, похоже, вновь выступила любовь к французскому искусству — от Эдуарда Мане до Рауля Дюфи и Альбера Марке, который посетил Советский Союз.
Насколько благожелательны были отклики на первую выставку, настолько жестким был прием выставки «13» в 1931 году. Не оставляет ощущение, что изменились не столько художники или концепция группы, сколько атмосфера времени. Яркие индивидуальности, личный взгляд, переживание момента, а не эпохи выглядели невинно в 1929 году, когда художников могли поддержать и Терновец, и Голлербах. Два года спустя о выставке пишут газетные критики, которые именуют художников «13» кустарями-одиночками, осколками буржуазного искусства. Но особенно резкой была оценка секретаря Российской ассоциации пролетарских художников Антона Усса. Стиль поразительно узнаваемый, равно как апелляция к власти и желание все мерить идеологическим метром: «Когда смотришь на этих Древиных, Даранов, Мавриных и др., то невольно задаешься вопросом: зачем Главискусство дает деньги на такое искусство, зачем этих людей еще кормят советским хлебом? (…) Советская действительность, пафос, подъем социалистического строительства группу «13» совсем не затрагивают, не интересуют».
После выхода 23 апреля 1932 партийного постановления о роспуске всех художественных объединений судьба группы была решена. Место муз, этих «крылатых гостей» поэтов и художников, заняли указания чиновников из монолитного Союза художников СССР.
© Музей русского импрессионизма
Судьбы художников сложились по-разному. Военной и послевоенной поре их творчества посвящены отдельные разделы выставки. Кто-то, как Борис Рыбченков и Надежда Кашина, изменил манеру, став успешными мэтрами советского искусства. Кто-то, как Александр Древин и Роман Семашкевич, был арестован и расстрелян. Кто-то, как Валентин Юстицкий, пережил ссылку, но сохранил талант и дар творчества. Кто-то, как тончайший живописец Антонина Софронова, стал работать в стол, а зарабатывать трудом ретушера. Кто-то, как Николай Кузьмин, Татьяна Маврина, Даниил Даран, Владимир Милашевский, прославился иллюстрациями романов Пушкина и Диккенса, Толстого и Салтыкова-Щедрина, Бальзака и Бабеля…
Раздел, посвященный книжным иллюстрациям художников «чертовой дюжины», стал своего рода сердцем экспозиции. Пространство, где встречаются долгое время романного повествования и стремительность рисунка, дало возможность художникам сохранить свою лирическую интонацию, субъективность взгляда. Пространство мировой классики и издательства Academia стало «внутренним убежищем», местом, где могла найти приют беспечная «крылатая гостья» поэтов и художников.
Нынешняя выставка в Музее русского импрессионизма не занимается реконструкцией двух давних выставок группы «13», отнюдь не затерявшихся в переулках ХХ века. Скорее она приглашает зрителей в круг людей, которые смогли сохранить тот «отблеск культуры и вкуса», что когда-то пленил Бориса Терновца, неповторимость индивидуальности и верность искусству. Не отсюда ли та «легкая грусть разлуки, словно уехали милые, любимые люди», что появляется, когда идешь к концу экспозиции?
До 2 июня
Текст: Жанна Васильева
Заглавная иллюстрация: © Музей русского импрессионизма
Заглавная иллюстрация: © Музей русского импрессионизма
Читайте также: