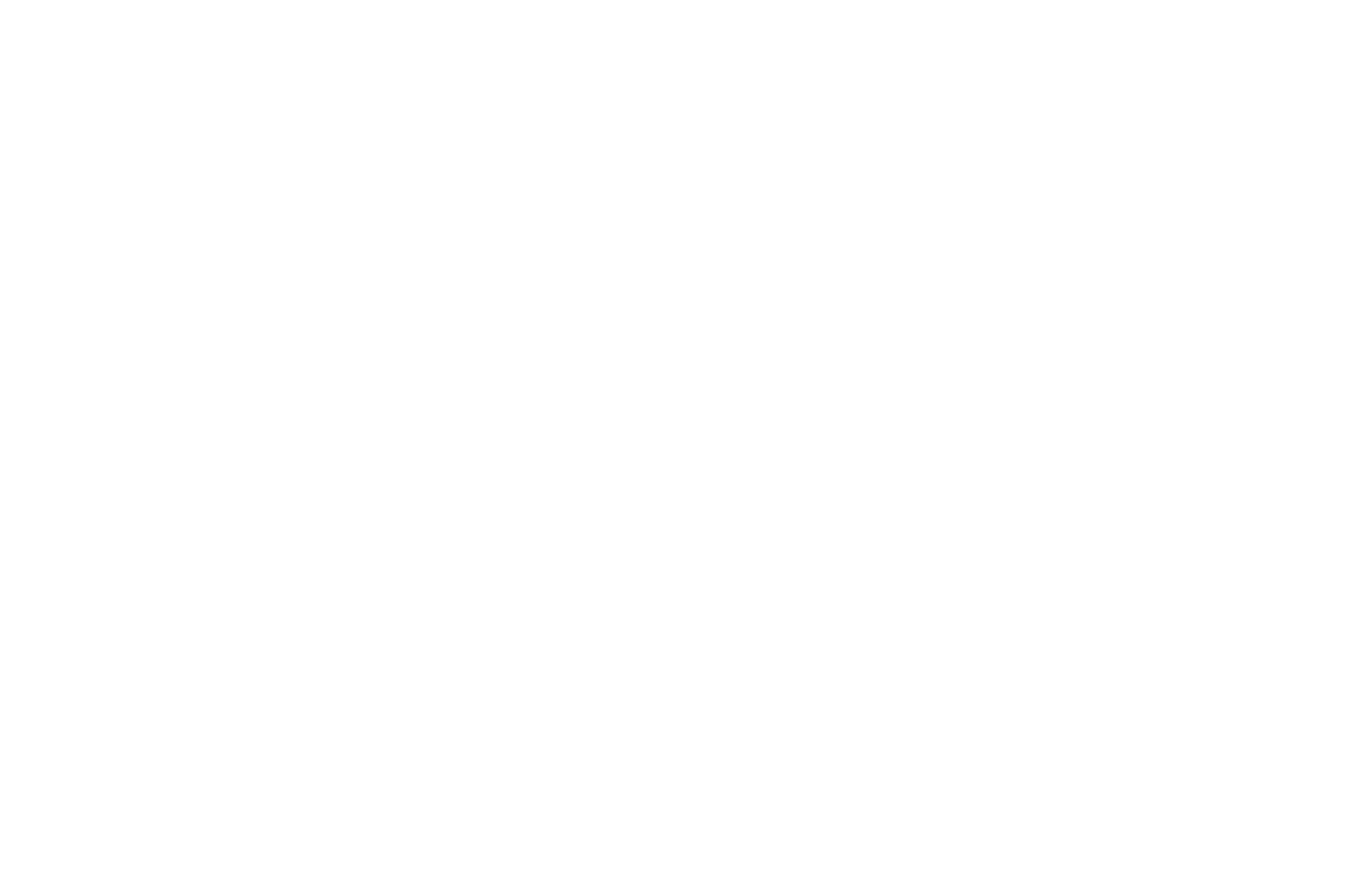| Возомнившие Анна Степанова об «Идиоте» Владислава Наставшева в Вахтанговском театре 22 марта 2025 |
Изумительно красив этот спектакль Театра имени Вахтангова — с роскошными костюмами Майи Майер, с сотканным из дымной проекции тонким занавесом-экраном, с микро-ландшафтом и морями-океанами на распластанной по планшету сцены поверхности земного шара (сценография — сам Владислав Наставшев и Валерия Барсукова). Топча каблуками моря и реки, горы и долины, лавируя между гигантскими креслами и диваном, под чернеющим сухим деревом и возле обломка когда-то роскошного интерьера на фоне бескрайних изменчивых небес, передвигаются там четыре титанические фигуры, последние существа, оставшиеся на этой измельчавшей планете.
Христоподобный князь Мышкин и омагдалиненная Настасья Филипповна, буйный русский Рогожин и вполне некрасовская, та, которая и коня, и в горящую избу, Аглая Епанчина — в совершенно сюрреалистической среде вчетвером образовали они причудливую геометрическую фигуру из двух наложившихся друг на друга любовных треугольников, пышущих неистовством, пропитанных кровью. Впрочем, неистовство тут по-вахтанговски театрально, кровь воображаемая, а страсти в бурлении своем очевидно стилизованы.
Мышкин у темноволосого красавчика Константина Белошапки тихий, миловидный и все как-то жмется, шляпу мнет. Традиционный Мышкин, благолепный. Такого играл в самом начале первого акта в своем скандальном ленкомовском «Князе» Константин Богомолов, но герой у него внезапно оскалился, обернулся тогда монстром и растлителем. Нет, этот Мышкин согласно сюжету романа покорно вытерпит всю поднятую вокруг него свистопляску и тихо сойдет с ума в финале, для наглядности обмазавшись чем-то белым вокруг рта.
© Театр им. Евг. Вахтангова
Лучшая сцена у Белошапки во втором акте, где Мышкин и Рогожин крестами меняются. Он говорит там в длинном монологе из романа о странной дикости русской и странном свирепом отечественном православии. Когда артист изображает голос мужика, продавшего ему свой нательный оловянный крест как серебряный и радующегося обману глупого барина, то вместо шелестящего мышкинского голоса вдруг пробивается его собственный, бодрый, мужской и сильный, обнаруживая сделанность, невсамделишность образа. Но вот его Мышкин доходит до рассказа о молодой бабе — тут-то и наступает лучший момент роли. Изнутри сломанного, покореженного мира проступает вдруг тепло надежды на человечность и божий промысел, когда пересказывает он слова бабы про «материну радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у бога радость, всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник пред ним от всего своего сердца на молитву становится».
Но вновь на сцену мегерами ворвутся беспрестанно сражающиеся за Мышкина шикарные дамы — и миг этот заслонят, уничтожат. Многоопытная и весьма неюная Настасья Филипповна Анны Дубровской, как и ослепительно молодая Аглая Полины Рафеевой безжалостно превращены режиссером в крикливые декоративные элементы спектакля.
Зато Рогожин Павла Юдина по-настоящему хорош, страшен, мерзок, точно отыгран — как сын своего жлоба отца-купца, нечаянно заблудившийся в великой страсти. Вот эту-то страсть великую в спектакле играет только он, разом перемахивая пространство сцены, скручивая длинное худое тело, весь подбирается, когда вцепляется в нож. У артиста лицо необычной рельефной лепки, оно словно ловит черные тени, причудливо изменяющие его, но никогда не перекрывающие острого ощущения опасности, исходящей от этого Рогожина.
© Театр им. Евг. Вахтангова
В последнем акте кардинально меняется сцена. Никакой земли под ногами у героев больше нет — и никакие они уже не титаны, а лишь возомнившие было себя таковыми под суровым взглядом режиссера Владислава Наставшева заурядные, запутавшиеся и обуржуазившиеся людишки.
Текст: Анна Степанова
Заглавная иллюстрация: © Театр им. Евг. Вахтангова
Заглавная иллюстрация: © Театр им. Евг. Вахтангова
Читайте также: