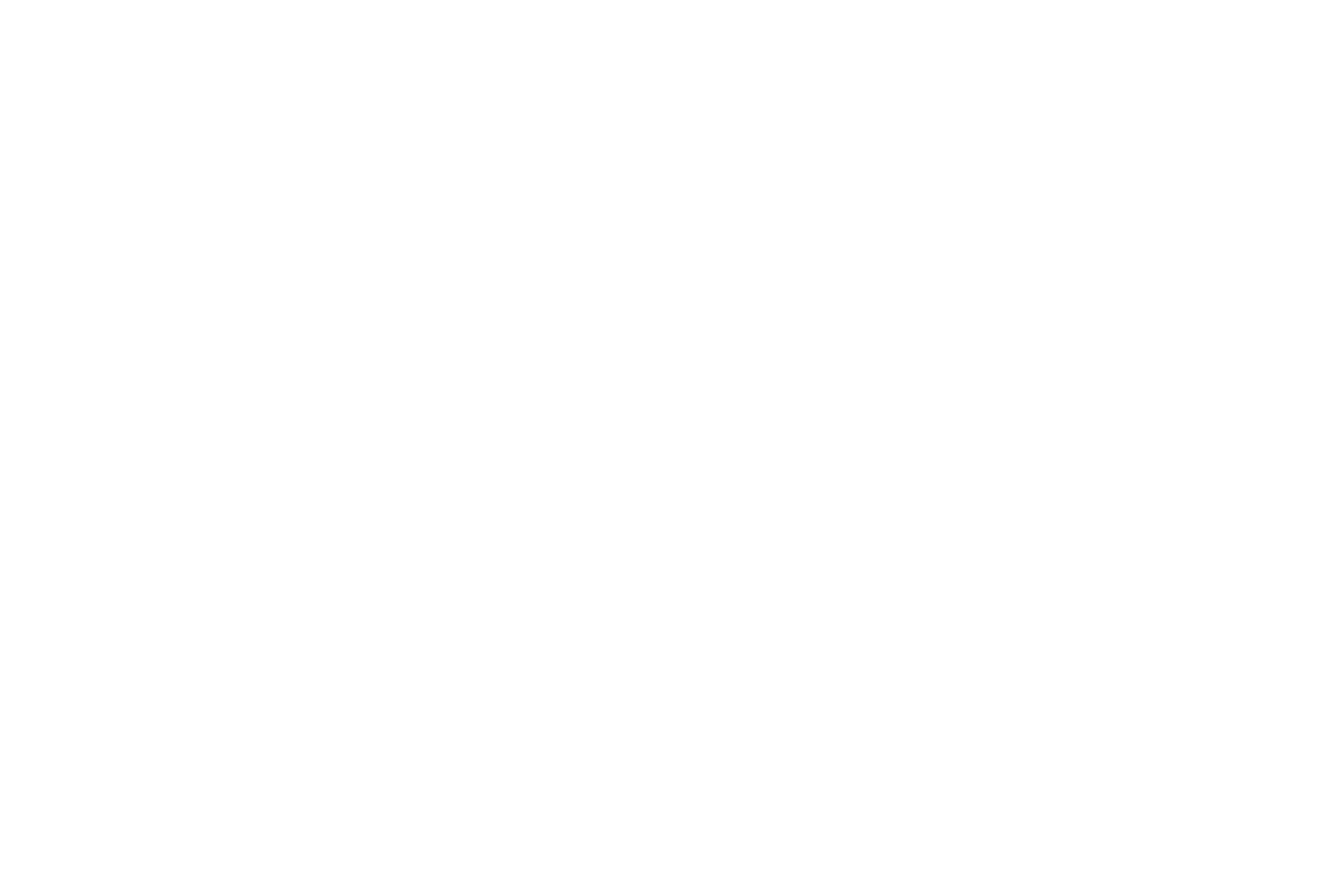| Дозировка загадочного «Яд» Алексея Семичова в Name Gallery 23 ноября 2025 |
Выставка Алексея Семичова открылась в Name Gallery всего полгода спустя после показанного здесь же Андреем Кузьминым «Монолита» — начиная с 1992 года художники составляли арт-дуэт, получивший широкую известность, но в следующие десятилетия выставлялись все реже. На общем фоне петербургского искусства их совместные работы выделялись свойствами живописи с явной ориентацией на «старых мастеров», как будто они оказались в залах музея (или же лавке антиквара) где-то между Северным Возрождением и картинами первой четверти XIX века, что было вполне оригинальной версией повсеместного в те годы постмодернизма. Только в последние пять лет Семичов и Кузьмин сделали несколько экспозиций, где демонстрировали как свою проверенную совместную классику, так и написанные по отдельности за последнее время работы.
Новая живопись и графика Семичова не теряет тесные пластические связи с работами прежних лет, что заметно отличает художника от его напарника Кузьмина, сейчас увлеченного возведением пейзажа в степени абстракции. Неизменные источники вдохновения Семичова — искусство «метафизиков» 1930-х годов, соседствующее разом с экспрессионизмом и сюрреализмом: разумеется, это немецкая «новая вещественность» и итальянское новеченто, а среди русского искусства — неоклассика Александра Яковлева и Василия Шухаева, но, прежде всего, мало успевшие в короткий период между концом 1920-х и началом 30-х годов Соломон Никритин, Сергей Лучишкин, Анатолий Гусятинский, Николай Дормидонтов, в меньшей степени Леонид Чупятов… Как очевидно на этой выставке, сейчас искусство Семичова пребывает в движении.
Символизм и эмоциональность цвета, клубящегося на четырех холстах «Приближаясь к краю», вызывает в памяти Одилона Редона. Помещенный в начале экспозиции, этот квартет полностью беспредметных работ — как «времена года» в исполнении Семичова, поддержан висящими напротив него четырьмя крупными живописными головами, решенными этюдно в совершенно иной манере и отвечающими, скорее, за четыре темперамента. В кураторском тексте Галина Поликарпова называет это искусство «алхимической реакцией красок и образов», пусть даже метафора алхимии несколько старомодна в разговоре о современной живописи.
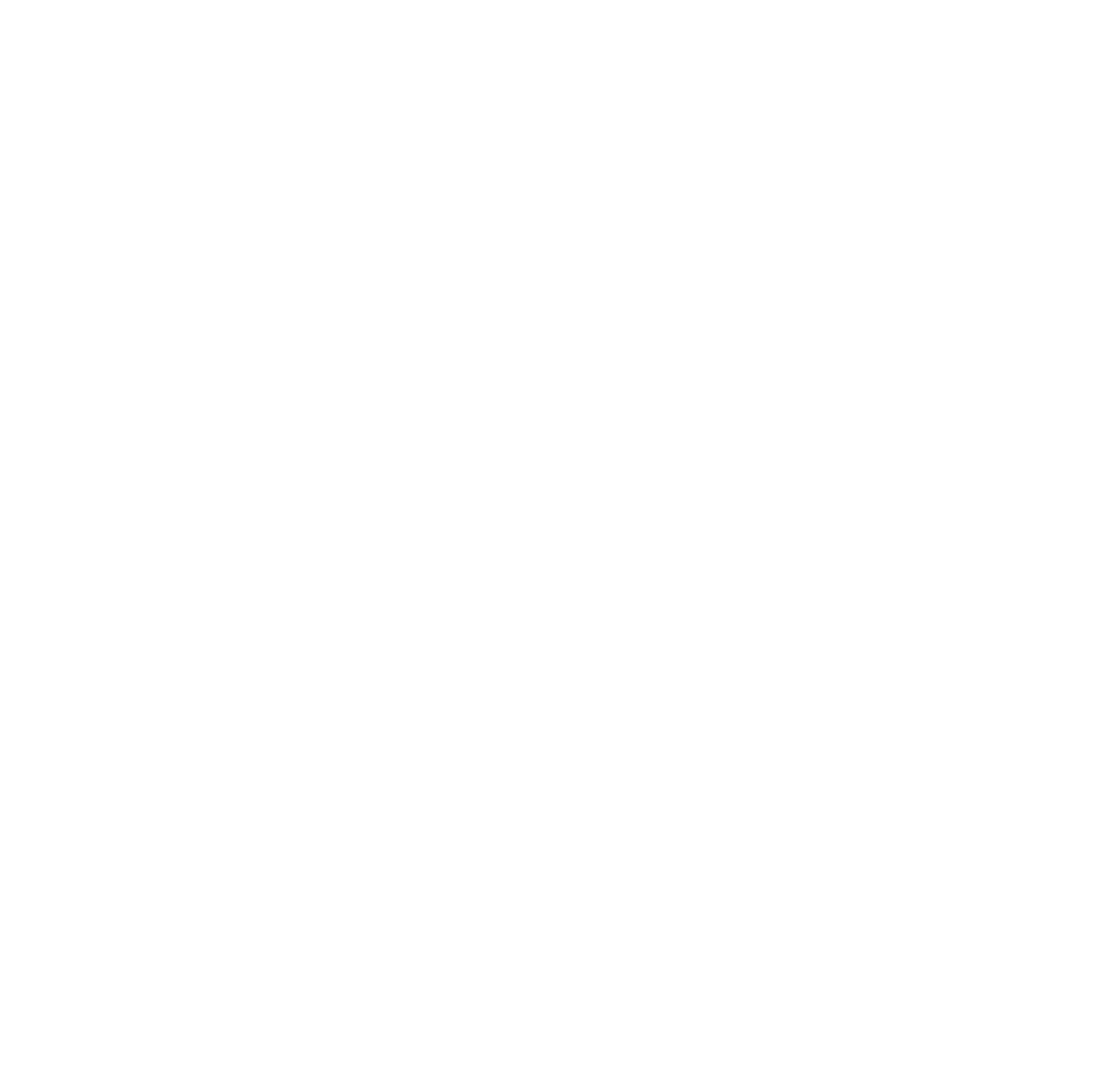
Алексей Семичов. Kometenmelodie 1. 2025 г.
Искусство Семичова постоянно сигнализирует зрителям о своей современности и, более того, актуальности: принадлежащий к старшему поколению 66-летний художник охотно и легко пользуется визуальными кодами, отличающими молодых авторов последнего десятилетия, хотя обладает несравнимо большим человеческим опытом и художническим бэкграундом. Например, соположенные холодные оттенки лилового и зеленого становятся у Семичова исключительно продуманным цветовым решением, — краплак и изумрудная зелень, какое-то время назад превратившиеся в знак всей новой живописи, используются им только порознь и на дистанции. Подобно тому, как одно и то же вещество может быть и ядом, и лекарством, грань между которыми очень мала, совершаемые живописцем действия отмерены точно и не более необходимого. Свободу и естественность творческого дыхания, вызывающую такие пластические ходы, почти невозможно заучить или имитировать.
Как думается, движущую силу работ на выставке «Яд» составляет диалектика этюдности и картинности. Казалось бы, проблематика картины — одна из любимых игрушек позднесоветской эстетики, не должна касаться художника, начинавшего с участия в группе «Митьки» и аккуратно обходящего стороной официальные инстанции. Тем не менее, она проявляется иным образом, — акварельной тонкостью и особой промытостью цвета, отличающей его большие форматы маслом (показателен двухчастный холст «Вниз по течению»), декларируемой постмодернизмом любовью к non finito, интересом к сфере психоанализа и сновидениям, где все обратимо и неокончательно. «Яд» демонстрирует процесс перехода от формальных к содержательным признакам новой живописи в искусстве Семичова.
Происходящее на еще одном крупном полотне — «Ночные животные» — хорошо описывается строчками Николая Заболоцкого: «Природа, обернувшаяся адом, / Свои дела творила без затей», которые в целом соответствуют настроению его искусства. Художник поступает как главный герой написанной в 1932 году поэмы «Лодейников», — радикально снижает порог восприятия и всматривается в открывшийся мир малых величин. Холст, решенный в любимых Семичовым серых и перламутровых тонах, выглядит словно монументализированный «позем» на какой-то картине XV века, — у корней разросшейся травы замерли два зверька, похожие на крыс, которых художник тотчас внимательно просвечивает до скелетов. Почти лишенная красок сцена происходит в важном для художника смутном пространстве тотальной неопределенности — между человеческим и животным миром, на временнóй меже между днем и ночью.
© Name Gallery
Еще в девяностые годы люди на картинах Семичова и Кузьмина переняли внешность и повадки у героев некрореалистов, — часто это были монструозные создания со спастическими жестами и мимикой, подобные зомби, что вели свое существование под вечно сумрачными небесами, какие встречаются в постапокалиптических киновидениях. Как в «Котловане» Платонова, исключение составляют дети — неоформившиеся и слишком мягкие создания, предназначенные к другой жизни в другом мире. Недаром одна из самых известных картин дуэта Семичова и Кузьмина — написанная в 1994 году «Детка»: большая работа изображает юношу, присевшего на бухту каната у борта корабля и погруженного в самоуглубленное состояние, не нарушаемое ничем. Без сомнения, он состоит в близком родстве с персонажами Бальтюса.
Полупризрачные дети возникают на нынешней выставке Семичова в монохромной графической серии Kometenmelodie, которую автор сопроводил выразительным стихотворным текстом: «Даже когда внезапно / над нами, не предвещая / ничего хорошего, / появляется облако / золотистого смога, дети / продолжают играть, / забыв, что их учили быть / готовыми к чему угодно». Герои этих работ, вместе с вымышленными друзьями исследующие и одновременно создающие свои миры, столь же самодостаточны и медитативны в детских играх, как и полуобнаженный юнга с французского парусника, однако в каждом из четырех листов на горизонте непогода. Как точно замечает Поликарпова, таково «решение пластических задач, сопряженное с перманентным переживанием катастрофы». Искусство Семичова старается избрать третий путь между страхами, охватывающими человека снаружи и изнутри, и вслед за «Блуждающими огнями» (как названа одна из картин выставки) уйти в область загадочного, — художник уже наметил несколько маршрутов.
Текст: Павел Герасименко
Заглавная иллюстрация: © Name Gallery
Заглавная иллюстрация: © Name Gallery
Читайте также: