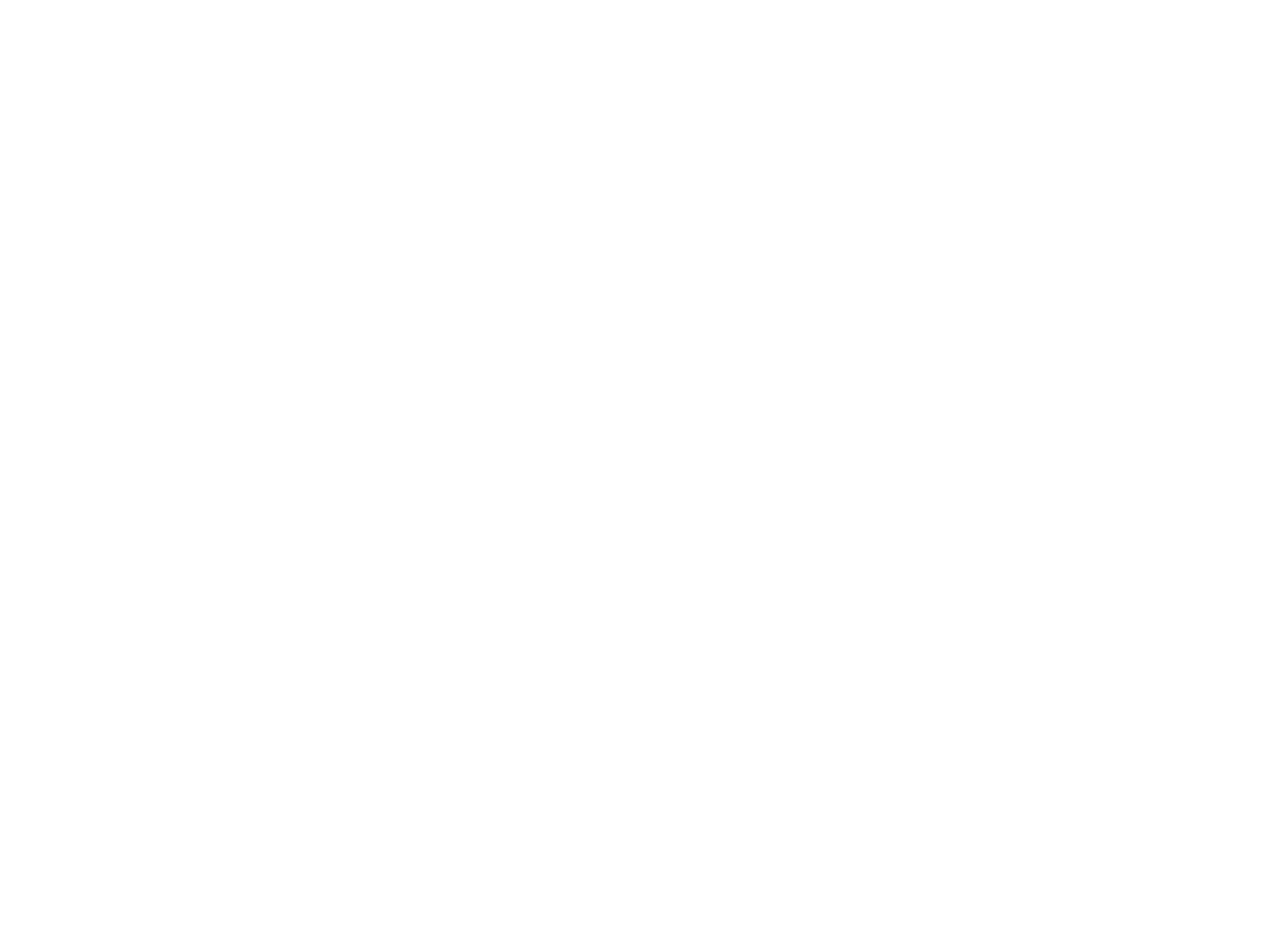| «Мне не нравятся выставки, сделанные ловко и богато, но тщеславно» Юрий Аввакумов о «Нашем авангарде» и о том, как делаются выставки 17 июня 2025 |
В Русском музее открывается «Наш авангард» — официальная выставка ПМЭФ-2025 будет доступна для широкой публики с 21 июня. Статус центрального события летнего сезона закрепился за очередным блокбастером Русского музея еще заочно. Интриговало и то, что более 400 работ из коллекции ГРМ и музеев-партнеров будут представлены в Корпусе Бенуа, и имя куратора-экспозиционера — им стал Юрий Аввакумов, идеолог движения «бумажной архитектуры», выдающийся куратор и один из главных в России специалистов по экспозиционному дизайну. Накануне открытия выставки Юрий Аввакумов ответил на вопросы Александры Александровой.
— Ваше имя связано прежде всего с феноменом «бумажной архитектуры» — вы известны и как активный участник этого движения, и как куратор большинства выставок «бумажников». Параллельно, с начала 1980-х, вы занимались проектированием выставок художников авангарда — от Поповой и Розановой до Мельникова и Татлина. Как развивался ваш интерес к авангарду — и как для вас «бумажная архитектура» связана с его наследием?
— В 1977 году в Центральном доме литераторов открылась выставка Владимира Татлина, студентом я на нее попал, и с тех пор Татлин — мой герой авангарда. В 1981-м после института я пошел работать в отдел Селима Омаровича Хан-Магомедова во ВНИИТЭ, Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, в том же году открылась выставка «Москва–Париж» — и со мной все стало ясно. Тогда же я познакомился с исследователями русского авангарда: Анатолием Анатольевичем Стригалевым, Натальей Львовной Адаскиной, Вигдарией Эвфраимовной Хазановой, Андреем Павловичем Гозаком… И они, так сказать, приняли меня в свою компанию несмотря на разницу в возрасте и знаниях.
В 1984 Заха Хадид сделала проект «Пик Гонконга», я увидел в каком-то бюллетене маленькую, плохо напечатанную картинку — и все понял. Заха изучала русский авангард и трансформировала его идеи в современную архитектуру. С того момента я занялся тем же — только если Заха эксплуатировала супрематизм, меня больше привлекал конструктивизм.
— Русский авангард начала XX века — феномен исключительно многообразный. Какие его художники или, возможно, течения представляют особый интерес лично для вас как для художника и куратора?
— Мне многое интересно, нелюбимых персонажей нет. Надо понимать, что станковый русский авангард создавался в 1910-е годы — это было время абсолютной творческой свободы, художники ездили за границу, купцы коллекционировали. После 1918 года эта свобода была очень сильно стеснена, а к 1925 году с художественной свободой было покончено: протагонисты — Филонов, Татлин, Малевич — продолжали творить, но уже по инерции.
© Из личного архива Юрия Аввакумова
— Когда речь идет о больших выставках, посвященных тому или иному важному феномену истории искусств, часто (возможно, по инерции) возникает ожидание, что этот феномен будет выставкой переосмыслен, подан под каким-то принципиально новым углом. Какие задачи вы ставили перед собой, когда придумывали «Наш авангард»? С чего началась работа над выставкой для Русского музея?
— Мысли были сугубо практические: в залах Бенуа надо было настроить климат, сбалансировать свет в световых фонарях, купить хорошие светильники, изменить саму атмосферу в выставочных пространствах… Потом появились соображения об архитектуре, мебели, колористике. Заказ с самого начала был сформулирован как проект выставки, способной в будущем стать постоянной экспозицией. Пришлось думать и о защите живописных работ от возможного вандализма — так вдоль всех экспозиционных стен появился протяженный подиум безопасности. Кроме того, что он служит барьером между открытыми картинами и зрителем, он еще и структурирует, «собирает» пространство, мы используем его для выставочного этикетажа. Да, и цвет. Залы покрашены в семь цветов, включая белый и серый. Все цвета пастельные, большинство залов нейтрального-серого или светло-серого цвета. Выбором колеров занималась Алена Кирцова, художник-минималист, как ее иногда называют.
— Ваши выставки знамениты тем, что для каждой из них вы создавали особый архитектурный «ход». Например, в Красной палате Ростовского кремля для выставки «Хвост кометы» внутри большого квадрата зала вы построили малый квадрат, повернув его на 45 градусов относительно внешнего, детально выстраивая таким образом сценографию для зрителя. Как организована экспозиция «Нашего авангарда»?
— Ну, уж и знамениты. Концепцией занимались кураторы Русского музея — Ирина Карасик, Алиса Любимова и Наталья Козырева. Я мог эту концепцию корректировать, но только в том, что касалось экспозиционных решений. Так, например, я предложил последний зал выставочной анфилады посвятить опере «Победа над солнцем», поставленной в 1913 году Михаилом Матюшиным, Казимиром Малевичем и Алексеем Крученых. В этом зале не будет произведений на стенах — только музыка Матюшина.
Вообще, это выставка классического авангарда — для его демонстрации не нужны особые декоративные приемы, «оживляж», как это когда-то называлось. Все, что от меня требовалось — обеспечить комфорт для зрителя. Мы показываем вдвое больше живописных работ, чем было в старой экспозиции, выставка структурирована по течениям и группировкам, снабжена текстовым аппаратом, так что главное — не отвлекать зрителя ни на что другое. Ему должно быть элементарно удобно смотреть и читать.
Эскиз экспозиции выставки «Наш авангард» © Юрий Аввакумов
— Имеют ли для вас значение архивные прецеденты — то, как искусство экспонировалось впервые, при жизни художников?
— Да, но условия демонстрации искусства все время меняются. Вспомните, что когда-то не существовало электричества, и все освещение велось из световых фонарей. Солнце садилось — и посетителей просили покинуть помещения. Это был диффузный свет. Еще не так давно в этом режиме работала галерея Уффици. Теперь там музейный направленный свет — не везде, кстати, удачно поставленный. Когда-то в музеях не проектировали отдельных помещений для хранения произведений искусства: все, чем музей владел, было представлено на его стенах, поэтому экспозиция зачастую представляла собой открытое хранение. Не такое уж современное открытие. Так что слепо копировать, скажем, шпалерную развеску того же авангарда, когда для его показа просто не хватало места, сегодня, когда место в музее есть, нелепо.
— Здание Корпуса Бенуа предназначено для выставок больших станковых картин. Какие сложности возникали в работе с этим пространством?
— Основная проблема выставочных залов в Корпусе Бенуа — это декоративные решетки на радиаторах, по две-три угловых композиции в каждом зале. Они одним своим видом съедали массу ценного выставочного пространства. Мы их убрали, доступ к радиаторам оставили только в виде гладких малозаметных коробов.
— Вы уже делали выставки Татлина в Дюссельдорфе и Москве, в Русском музее ему отведен отдельный зал. Как на выставке «Наш авангард» вы работаете с пространственными объектами?
— Да как обычно. Проблема в том, что у Русского музея нет своей модели Памятника III Интернационалу, как у Третьяковской галереи. Поэтому главный татлинский объект будет представлен в арендованной у Центра «Зотов» модели. В ноябре он уедет из Корпуса Бенуа на выставку Татлина в Москве. Как его показать, когда его не будет?
Экспозиция выставки «Наш авангард» © ГРМ
— В своих соцсетях вы регулярно публикуете очень хлесткие и точные заметки о выставках, которые посещаете, делая акцент в первую очередь на устройстве экспозиции — и часто выступая с критикой дизайна и кураторских решений, связанных с выставочным пространством. Как бы вы сформулировали некие абсолютные критерии, которые определяют хорошо сделанную экспозицию?
— Я не только критикую, но и хвалю тоже. Об экспозициях, спроектированных неловко, по бедности или недостатку у дизайнера опыта, стараюсь не писать. Мне не нравятся выставки, сделанные как раз ловко и богато, но тщеславно. Своего рода vanity fairs, на которых удовлетворяются амбиции дизайнеров или руководителей предприятий культуры, когда о выставляемых художниках напрочь забывают. Между тем, художники авангарда предпочитали выставлять свои работы на удобной для зрителя высоте, затягивая стены серым холстом. Последней жертвой чужого тщеславия стала Ольга Розанова в «ГЭС-2» — ее выставили на ярко окрашенных стенах, часть работ оказалась экспонирована чуть не под потолком.
— Могли бы вы назвать одну или несколько выставок, которые вы считаете абсолютными шедеврами с точки зрения кураторского подхода?
— В свое время на меня большое впечатление произвела выставка коллекции Костаки в музее LACMA в Лос-Анжелесе. Ее в 1980 году спроектировал Фрэнк Гери, малоизвестный в то время архитектор. Гери не погнался за так называемой конгениальностью, создав пространство адекватное выставляемому материалу: пространство свободное, стены белые, витрины и подиумы фанерные, развеска однорядная, свет ровный.
— Есть ли у вас какой-то выставочный проект, который вам особенно дорог, но остался неосуществленным?
— Все равно дороги: непостроенные музеи в Абу-Даби, Коломне, Владикавказе — но это сооружения, которые кроме как на бумаге иначе не существовали. А усадьба Голицыных на Волхонке, которую мы с коллегой Георгием Солоповым проектировали как галерею коллекций Щукина и Морозова — это живой дом. Проектировали и вели надзор за строительством десять лет, спроектировали все, что возможно, включая светопрозрачную кровлю, подробную экспозицию, интерьеры, мебель. Последние два года стройка остановлена, леса с защитой от атмосферных осадков сняты и дом, памятник культурного наследия, медленно разрушается. Один подрядчик обанкротился, второй, кажется, вообще некомпетентен, Министерство культуры ответственность с себя сняло и передало объект Минстрою, а там были бы рады совсем избавиться от всех, кто дом проектировал и вел надзор за реставрационными работами. Вот это действительно печально.
Заглавная иллюстрация: Экспозиция выставки «Наш авангард» © ГРМ
Читайте также: