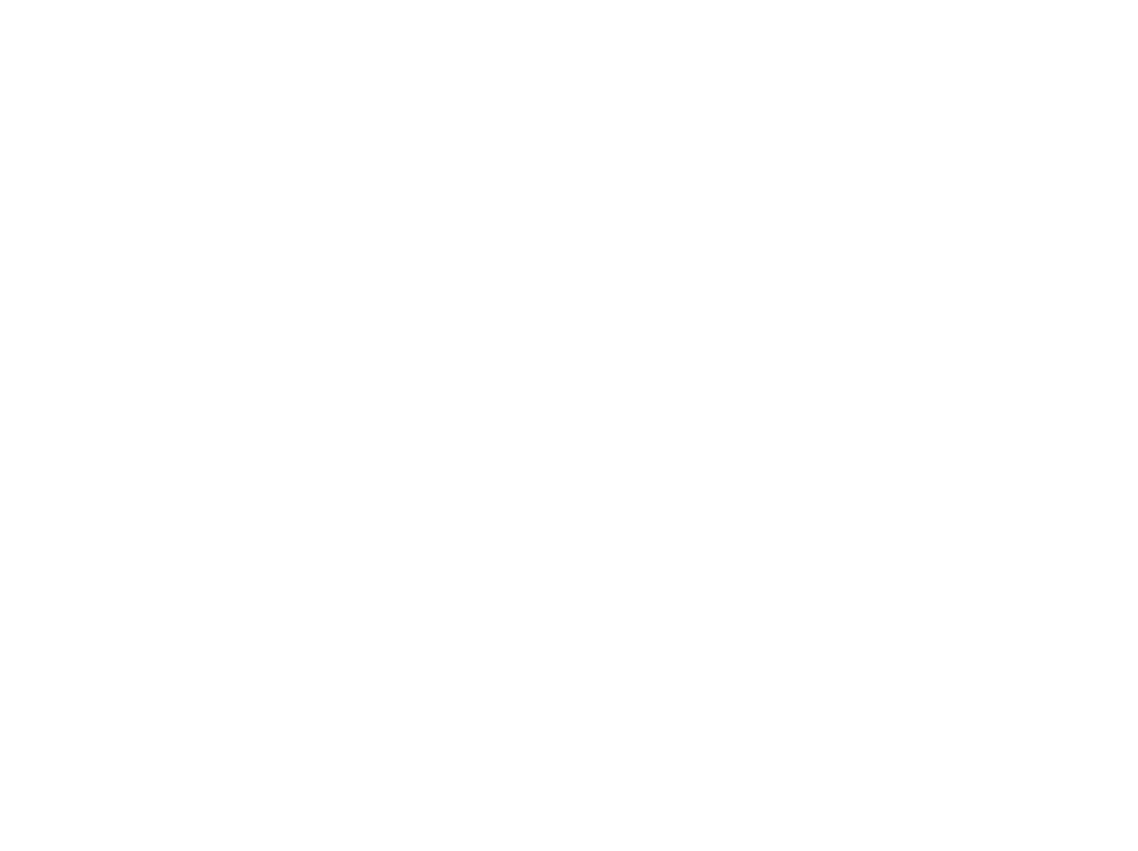| «Чувствовать важнее, чем знать» Марина Лошак в беседе с Александрой Александровой 16 мая 2025 |
Masters Journal продолжает публикацию ключевых материалов нового выпуска печатной версии журнала. Сегодня мы представляем интервью с куратором музея «Полторы комнаты» Мариной Лошак — о настоящем и будущем Музея Иосифа Бродского, о кураторстве и коллекционерах.
— Что для вас самое интересное и важное в кураторстве?
— В работе куратора есть очень важный аспект, связанный с подвижностью человеческой личности, с любопытством, с открытостью, с незашоренностью глаза. Это важно для каждого, но для куратора — особенно, потому что нам всегда проще пойти за привычкой: когда что-то один раз удалось, удобнее и спокойнее тиражировать этот успех, но через какое-то время тебе самому становится неинтересно с самим собой быть — и результат уже никого не удивляет. Сегодня, ярких кураторов не слишком много, часто возникает ощущение, что ты смотришь одну и ту же выставку. Поэтому в кураторстве интересно все время менять платье, стараться смотреть на мир с разных сторон, быть парадоксальным, меняться. Так как я человек влюбчивый, то время от времени увлекаюсь совершенно разными вещами, которые до сих пор меня не волновали. Это может быть результатом моих собственных человеческих изменений — вдруг я для себя открываю что-то, чего не знала раньше, это что-то захватывает меня совершенно невероятным образом так, что я забываю все остальное. Сама возможность работать с разным, меняться — безусловно, огромный плюс кураторских практик.
— Ваша работа в музее «Полторы комнаты» прекрасно иллюстрирует этот тезис. Складывается впечатление, что именно с вашим приходом этот прекрасный (и мной лично очень любимый) музей начал показывать выставки, связанные не только с Иосифом Бродским. Так ли это на самом деле? Насколько сознательно вы отходите от идеи строго мемориального музея?
— «Полторы комнаты» — очень камерная институция, и в этом ее огромные плюсы. Потому что именно в камерности, искренности, в этом человеческом голосе, в практически семейном общении, в этих хорошо узнаваемых лицах — а коллектив музея очень невелик — заключается главное обаяние этого места. И благодаря этому «Полторы комнаты» могут позволить себе двигаться в разные стороны. Это особенно важно, если учесть, что вообще-то мы привыкли относиться к мемориальным музеям с некоторой тоской — для меня, во всяком случае, они всегда ассоциируются с такой уважительной обязательной скукой, с заранее запрограммированным сюжетом и эмоциями, которые музей должен вызвать у зрителя. Причем так, кстати, происходит не только в России — наоборот, у нас как раз хватает исключений из этого правила. Музеи-квартиры — сложный формат, от него трудно ждать разнообразия.
В случае «Полутора комнат» все точь-в-точь как у самого Бродского. Мы находимся в состоянии постоянного развития, экспериментов: в его случае — с языком, с поэтической фразой, в нашем случае — с самыми разными проявлениями ассоциативных полей, связанных с фигурой Бродского и его творчеством. Как все уже хорошо знают, в музее практически нет экспонатов — все они находятся по соседству, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Наш главный экспонат — сами «Полторы комнаты»: пространство становится проводником тех чувств и эмоций, которые заложены Бродским в одноименном эссе. Информация — не равно знание. Знания и эмоции соединены вместе — и чувствовать, как мне кажется, важнее, чем знать. Мы пытаемся доказывать это разными способами — и здесь нам на помощь приходит искусство в самых разных его формах, и вербальное, и визуальное…
Александр Бродский. Рождественский вертеп (2022) © Юрий Пальмин
Искусство дает зрителю возможность получить знания и эмоцию самыми разными путями — и эти пути бесконечны. Вовсе не обязательно иметь в экспозиции все подлинные фотографии матери Бродского и ее оригинальную швейную машинку (о которой мы, конечно, мечтаем), или телефон, который связывал ее с сыном. Может быть, достаточно ситуации, когда ты в пустой комнате просто слышишь звонок отсутствующего телефона? Звуковая инсталляция может работать сильнее, чем артефакт — и вызывать значительно более глубокую эмоцию, чем поверхностная визуальность. В этом смысле искусство вообще дает тебе колоссальное количество невероятно разнообразных инструментов, которых не нужно бояться — в конечном счете все делается ради сильного эмоционального переживания.
Экспонаты мемориального свойства постепенно собираются в архиве музея, но если мы их все-таки показываем, то они всякий раз «перекладываются», как на музыку, Александром Бродским. То, как сделана каждая его выставка — скажем, посвященная деревне Норинской, месту ссылки Бродского, — демонстрирует нам ход мыслей одного из лучших художников современности. Вслед за Иосифом Бродским мы стараемся быть формалистами — для нас очень важно не только «что», но и «как». Это соединение того, что является сутью содержания и скрупулезным отношением к самой манере изложения, мне кажется, важный атрибут «Полутора комнат».
— Чем отличается работа куратора в очень маленьком музее от работы в большом музее?
— «Полторы комнаты» — очень молодой музей в том смысле, что он постоянно готов к эксперименту, к движению вперед. Несмотря на то, что мы с Сашей Бродским представляем, я бы сказала, взрослую часть этого маленького сообщества, все остальные люди, работающие в «Полутора комнатах», очень молоды — включая Максима Левченко, директора музея и его важнейшее звено. Здесь все очень хорошо образованы, очень тонко устроены, креативны и вызывают у меня абсолютный восторг. Визионеров никогда не бывает много, так что это редкая привилегия — работать с людьми не просто инициативными, но и способными создать и показать некую ситуацию, придуманную исходя из какой-то новой позиции, дающую неожиданную оптику. Поэтому в «Полутора комнатах» происходят события, которых ты сам не ждешь, а они вытекают одно из другого.
Здесь все идеи осуществляются с невероятной быстротой — а я человек очень быстрый, и мне всю жизнь безуспешно приходилось с этим бороться. Я — спринтер, у меня очень плохо с терпением, я не успеваю за собой. В «Полутора комнатах» работают люди другого типа — они значительно более глубокие, чем я, и способны на длительные, долгие, осмысленные, глубокие марафонские дистанции. Но одновременно все решения принимаются очень быстро: от точки придумывания до точки реализации проходит минимальный срок — настолько маленький, что даже для меня, человека быстрого, это удивительно.
Когда ты долго работаешь внутри музейных институций, то привыкаешь к тому, что это пространства, которые не терпят высоких скоростей — они предназначены для более длительных, по-настоящему марафонских процессов. Выставка может готовиться три, четыре года, иногда больше — это долгий путь. Но в маленькой частной институции, где работает так мало людей, все зависит только от тебя — и ты понимаешь, что если чего-то хочешь, то можешь добиться результата очень быстро. У этого есть, конечно, и обратная сторона — ты далеко не всегда уверен, что результат будет успешен, но зато ты все время пробуешь и таким образом накапливается уникальный опыт, который невозможно получить другим образом. Просчитать или понять можно только тогда, когда ты попробовал. Я считаю, что это вообще невероятное преимущество небольших институций, где работают внутренне подвижные люди. Потому что все мы устроены по-разному, и большинство людей не очень любит приобретать опыт, результат которого не слишком понятен, — иначе говоря, все стараются пройти не по льду, а по мосту.
— По каким критериям вы выбираете художников для сотрудничества?
— Этот выбор в равной степени рационален и иррационален. Есть много любимых мной художников, которые просто не совпадают с воздухом «Полутора комнат» — и ты понимаешь это просто по умолчанию. Само пространство музея диктует, что туда может попасть только художник определенного типа, что там может звучать только определенная интонация — это органический процесс, химия, его очень трудно объяснить. Так было, например, с бисквитами Лизы Бобковой, или с рождественской выставкой Ирины Затуловской — проектами, созданными специально для «Полутора комнат». Затуловская вышила рождественские стихи Бродского на старой венецианской ткани — и все неслучайно соединилось вместе: непосредственность приема, культура исполнения, абсолютно живое состояние, которое было в этих работах, чудесно вошли в тело музея.
Экспозиция выставки «Лев Юдин» в Квартире №43 © Мария Гельман
— Каким вы видите ближайшее будущее музея?
— «Полторы комнаты» расширяет свои границы, заполучает новые пространства, которые называются квартирами, — и это правда квартиры, мы продолжаем идти вслед за человеческим, за интимностью человеческого существования. В «Квартире № 7» — новом пространстве, где сейчас проходит выставка Михаила Рогинского, — в самом конце апреля откроется новый проект, в котором рассказчиком будет сам Александр Бродский. Он готовит тотальную инсталляцию, пересказывать которую бесполезно, но она опирается на все те же вечные человеческие чувства, что живут в каждом из нас. Все это про любовь, про одиночество, про бесконечность и конечность существования, про философские материи — иногда сниженные, безусловно, с огромной долей самоиронии, которые присутствуют в человеческом измерении нашего героя Иосифа Бродского, и одновременно присущие самому Александру Бродскому.
Мы очень хотим, чтобы проекты, непосредственно связанные с «Полуторами комнатами», с этими сорока четырьмя метрами, разделенными колоннами на две части, стали объектом исследования разных художников. В нынешнем году мы постараемся осуществить три проекта, работающих с самим пространством, его устройством, его историей, фантастическими стенами, видом из окна, его пустотой и светом из окон.
Есть еще много разных тем и каких-то отдельных направлений, которые нам кажется очень важным продолжать — скажем, работа с книгой художника, livre d’artiste, издание которых началось еще при жизни Бродского. Ему повезло работать с двумя выдающимися художниками ХХ века — Антони Тапиесом и Георгом Базелицем. С каждым из них Бродский сделал свою книгу художника с литографированными листами: Базелица мы уже показали, на очереди проект, связанный с каталонцем Тапиесом. В продолжении этой линии мы работаем над совершенно новой livre d’artiste уже с классиком современного русского искусства Виктором Пивоваровым — это будет «Речь о пролитом молоке». Пивоваров был знаком с Бродским, встречался с ним в своей мастерской в Москве, что тоже будет запечатлено в этой книге.
Когда я только присоединилась к «Полутора комнатам» как постоянный куратор, я придумала для только что открывшейся «Квартиры № 34» выставку «От руки». Это еще одна из интереснейших страниц в истории дома Мурузи, где располагалась первая квартира, в которую заехали молодожены Мережковский и Гиппиус. Только что в «Квартире № 34» мы показали проект, сделанный в содружестве с аукционным домом «Литфонд» — выставку Льва Юдина, замечательного художника из круга Казимира Малевича, с творчеством которого широкий зритель познакомился относительно недавно благодаря выставкам Русского музея, где его работы преимущественно и хранятся. Произведений Юдина очень мало в частных собраниях, да и вообще их сохранилось не слишком много. Для «Полутора комнат» было очень интересно воспользоваться такой возможностью и показать выставку, на которой профессионалы и широкая публика на протяжении двух недель могли поговорить про Льва Юдина, узнать о нем больше и увидеть действительно редчайшие вещи, которые экспонируются далеко не каждый день. Я надеюсь, что в этом пространстве время от времени будут происходить небольшие выставки именно такого типа.
Путь музея очень многогранен. Недавно у нас открылось еще одно пространство, которое я обожаю и считаю очень важным — Белый дом. Это идеальное музейное пространство по всем параметрам, где можно делать проекты, дающие понимание того, как по-разному может выглядеть искусство и как по-разному можно его ощущать — имея в виду разные возможности инсталлирования. Сейчас там можно увидеть произведения Михаила Рогинского из коллекции Максима Левченко — большое количество работ совершенно фантастического класса, которые идеально экспонируются. Каждую из них можно ощутить в одиночестве — иногда тотальном, а иногда в редком и неслучайном соседстве, или в диалоге друг с другом, создающем совсем другую среду и точку зрения.
Экспозиция выставки «Кв-7. Михаил Рогинский» © Дмитрий Цыренщиков
И, конечно, мы стараемся не забывать о том, что талантливый зритель так же важен, как талантливое произведение искусства, как талантливый автор, это очень важный обмен, в котором одно помогает другому. Поэтому вырастить зрителя, способного на такой диалог, зрителя готового, открытого к разнообразным чувствованиям — это тоже очень важная задача музея.
— Кстати о частных собраниях. Вы много и последовательно работаете с коллекционерами — в чем для вас важность этой деятельности? Как, на ваш взгляд, меняется роль коллекционера в современной художественной системе?
— Фонд «Новые коллекционеры» был создан как раз в тот момент, когда понимание роли коллекционера многократно возросло, стало очевидным и очень актуальным. Коллекционер — самый важный игрок в пространстве культуры, и так, безусловно, было всегда. Равноценен ему только художник — без них не могут существовать ни галерея, ни фонд, ни музей. Сегодня коллекционер становится тем звеном, которое берет на себя всю полноту ответственности: за судьбу произведений искусства, за судьбу художника, за их дальнейшую жизнь. Я говорю сейчас не просто о собирателях искусства, покупающих ту или иную вещь в интерьер, — хотя их роль тоже важна, и с каждым годом таких людей, по счастью, становится все больше. Но мы в первую очередь думаем о коллекционерах, отвечающих за ключевые задачи: они не просто дружат с художниками, но занимаются культурным производством, думают о будущем искусства, продюсируют выставки, приобретают их целиком и открывают пространства, где их можно показывать. По сути, коллекционеры работают как музейные институции — в таком объеме ничего подобного до сих пор не происходило. Хранилище — это форма, которая в какой-то момент неизбежно превращается в институцию, что доказывает опыт Сергея Лимонова и его Limonov Art Foundation, где только что прошла первая выставка художника Грехта.
Это очень хорошие новости, и наш фонд как раз служит для того, чтобы соединять людей. Нас очень заботит ситуация в регионах, где сложности возникают даже там, где искусства много и где существуют, казалось бы, все предпосылки к развитию. Поэтому мы рассказываем о тех, кто сейчас меняет жизнь вокруг себя — и хотим подать людям знак, что все в их руках. Зачастую один человек благодаря своему желанию, энергии и энтузиазму способен изменить колесо истории в своем городе или регионе — а потом, как выясняется, и не только в своем. Нам важно всех перезнакомить, всех соединить, наладить связи — чтобы у тех важных процессов, которые происходят сегодня на российской художественной сцене, было большое будущее.
— В чем вы видите различие путей коллекционеров в России и на Западе?
— С одной стороны, есть много общего, потому что коллекционирование — это про человеческое, а люди везде более или менее похожи. С другой стороны мы, в отличие от Запада, живем вне сформированного рынка искусства. Всю свою профессиональную жизнь, примерно с конца 1980-х, я слышу разговоры о том, что рынок складывается и вот-вот оформится — но его как не было, так и нет. И это при том, что существует огромный спрос, интерес к искусству очевиден, ярмарки наступают друг другу на пятки… Я считаю, что в формировании рынка и понимания того, почему это действительно важно, велика роль государства. У нас все немножко по-другому — все держится на персональном человеческом энтузиазме. Но я абсолютно убеждена в том, что в России есть огромное количество еще не использованных возможностей — и верю в энергичных, парадоксально мыслящих и очень талантливых людей, которые их используют.
Заглавная иллюстрация: © Анна Маленкова
Читайте также: