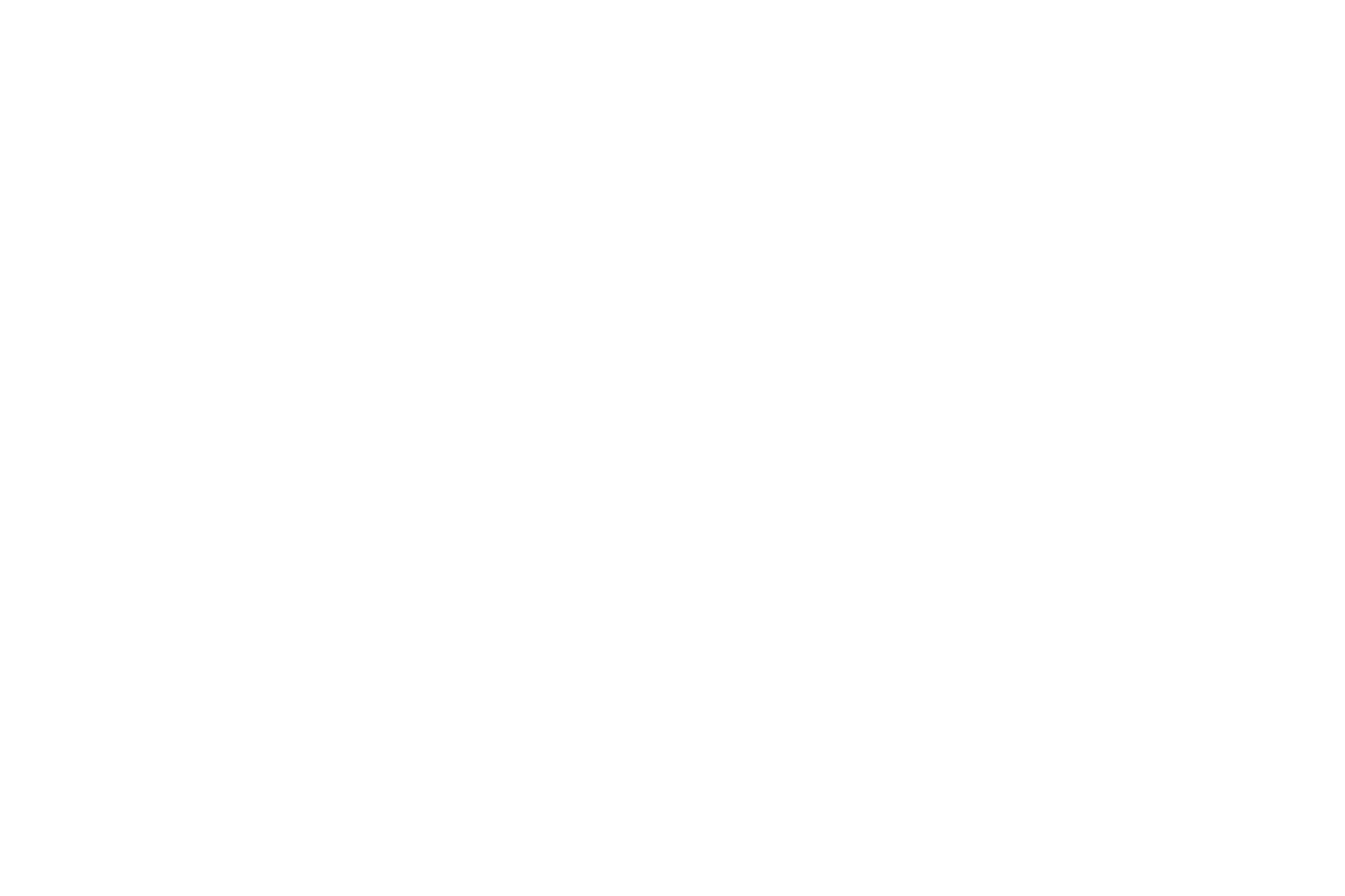Свеча в углу Лилия Шитенбург о «Молодом Папе» Абеля Феррары 10 ноября 2023 |
Нет ничего удивительного в том, что режиссер Абель Феррара снял фильм о католическом святом. Тот самый Феррара, который с первых же своих работ наводнил экран насилием, наркотиками, бандитскими перестрелками, драками, развратом, рок-н-роллом — словом, всем, чего теперь кинематографу если и не совсем нельзя, то, во всяком случае, не рекомендуется. Хуже всего было то, что во всех фильмах Феррары 1980–1990-х годов все вышеперечисленные непристойные ужасы делали героев раздражающе живыми, их лица — искаженными судорогой, но осмысленными, «злые» городские улицы за их спинами — полными энергии и пестрой, разноцветной (до сплошных пятен на экране), смертоносной, но неотразимой витальности. И точно такими же — отчаянными, яростными и душераздирающими — были в его фильмах религиозные метания, переживания богооставленности, совесть, раскаяние и прочие католические мотивы, которые в современном кино давно уже обросли жирком и выглядят преимущественно прирученными, приятно обуржуазившимися, сентиментальными и кокетливо загадочными. Вероятно, из этих же соображений «католицизма в модных визуальных формах» российские прокатчики назвали последний фильм Феррары «Падре Пио» — «Молодым Папой». Что и говорить, герой сериала Соррентино — душка. А вот Абеля Феррару всегда интересовала только душа. Ну и тело — как же без него. Иногда криминал и религия, «жало в плоть» и крест на сердце срастались у Феррары в такой безумный (под стать времени) симбиоз, что то тут, то там в его фильмах появлялись монахини — страдающие и(или) стреляющие в упор. И трудно забыть, где именно располагалась татуировка ангельских крыльев на молодом теле Азии Ардженто в «Отеле "Новая Роза"».
Падре Пио никогда не был Папой Римским, ни молодым, ни старым. Это реально существовавший католический святой, почти всю жизнь проживший в крохотном итальянском монастыре Сан-Джованни-Ротондо. Он умер в 1968, канонизирован был двадцать лет назад. Прославился падре Пио своими чудесами (говорят, после его молитвы хромые начинали ходить, а слепые прозревали). Предсказывал будущее, на исповеди видел всех насквозь, сражался с сатаной и имел на руках, ногах и боку стигматы, знаки ран Христовых, которые кровоточили у него почти всю его жизнь.
Абель Феррара делает из этого достойного христианина — «плохого святого». Проверяя его жизнь и веру на прочность точно так же, как поступил он когда-то со своим, наверное, самым знаковым героем — «плохим лейтенантом» Харви Кейтеля. Пио из Пьетрельчины у Феррары — грешник, так он себя осознает, с этого он начинает в фильме. Зачем режиссер взял на роль святого актера Шайю Лабафа, замеченного в чем угодно, кроме молитвенных медитаций? И главным образом в очередном секс-скандале, где вроде бы обошлось без насилия, по крайней мере, физического, зато актер потом долго и нудно объяснялся. Его уже успели «культурно отменить», но не насмерть. Что в нем увидел Феррара? То, что бросается в глаза при первом же взгляде на героя Лабафа — чувство вины. Он виноват, он плохой, он хуже всех, он, возможно, католик, он точно персонаж Абеля Феррары (актер, кстати, после съемок принял католичество).
© Christian Mantuano/Gravitas Ventures
Стоит падре Пио добраться до своего захолустного монастыря (крошечная фигурка теряется на горной дороге) — как сомнения и страдания одолевают его, да еще и приходится вступать в спор с неизвестным мрачно настроенным субъектом. А тот безжалостен и неутомим, он требует, чтобы Пио, который не пошел на войну, признался, что он трус и предатель. И жалкий бородатый человечек в рясе плачет и трясется, держась за свечку, но из последних сил сопротивляется, дескать, нет, не трус. Но незнакомец неотступен — и тогда экран заливает «ферраровским» темно-красным, и последний довод, который может бросить человек в лицо дьяволу, это: «Скажи: Иисус Господь!». И все. И вопросы закончились. Не скажет ведь. И теперь только драться на кулачках во всполохах красного и синего, и смотреть, как тот, кто был так настойчив в вопросах армейской отчетности, рычит черным адским псом. Точно теми же словами падре прогонит с исповеди персонажа, названного в титрах «Высокий человек» (Азия Ардженто в мужском костюме) — тот рассказывает об инцестуальном влечении к дочери, и падре буквально взрывается: тут уж не до тонкостей обряда, тут можно только нецензурно («плохой святой» от души матерится).
Это настоящий Феррара — почти как в былые годы. Разница не в том, сколько энергии осталось в кадре (о, еще вполне довольно) или не разучился ли он монтировать хаос (этот вопрос не стоял даже в двух его последних, что называется «спорных», но вовсе не бессмысленных фильмах: «Сибирь» и «Нули и единицы») — разница в том, что картина мира семидесятилетнего режиссера стала проще. Это совсем нередко случается с большими мастерами. Может быть, причиной тому мудрость, которую иногда легко спутать с увлечением банальностями. А может быть, это маленькая дочь режиссера — Анна Феррара, которая во всех последних фильмах играет чьего-нибудь ребенка, но отчитываться о судьбах мира перед которым надо, как перед своим. Во всяком случае в последнем фильме Феррары формула «Скажи: Иисус Господь!» — это и броня, и единственное оружие, и его достаточно. Все просто.
Скромность и смирение — христианские добродетели, и в «Падре Пио» им самое место: главный герой занимает едва ли треть экранного времени. История о деревенском святом не может игнорировать то, что происходит вокруг. В послевоенном 1919 году во всей Италии прошли первые за шесть лет парламентские выборы, где, как известно, консерваторы и радикалы ощутимо проиграли, а социалисты — выиграли. Выиграли они и в Сан-Джованни-Ротондо, но власть имущие попросту отобрали победу у народа, расстреляв безоружных победителей. Камера Феррары с исключительным вниманием вглядывается в человеческие лица: вот те, кто вернулся с войны, пути их разойдутся, выжившие пойдут кто в коммунисты, кто в фашисты, а кто и в террористы (самый очаровательный местный студент из богатых просто родился раньше своего времени — «Красных бригад»). Симпатии режиссера, разумеется, с теми, у кого в руках bandiera rossa — не зря же он в свое время снял фильм о великом Пазолини. Любопытны ему и будущие фашисты: вот они методично раскладывают ружья и пистолеты, чтобы местный священник окропил их святой водой и благословил. И благословил ведь, не поморщился. Где во всех этих событиях падре Пио? Он по-прежнему у себя в келье, он никак — внешне — не связан ни с палачами, ни с жертвами. Он — не священник-мученик, сыгранный Альдо Фабрицци у Росселини. Падре Пио оплакивает души, сидит в углу, держит свечку. Но — согласно истории, рассказанной Феррарой, — после расстрела у него и проявятся стигматы. (В реальности, кажется, было не так, но что именно здесь считать реальностью?).
© Christian Mantuano/Gravitas Ventures
Чудеса, происходящие в фильме, показаны буднично, почти вскользь. Падре Пио закончил мессу в церкви, вышел, попрощался с немногочисленными прихожанами. Заметил сидящего в углу на тротуаре нищего — то ли спящего, то ли пьяного. Подошел, сел рядом, и словно бы и сам на минутку уснул. Потом открыл глаза, потрепал соседа по ноге, встал, ушел. А взгляд камеры тихонько поехал вниз, на ноги в грязных обмотках, и эти ноги сначала дернулись, а потом нищий, покачиваясь, встал и, сохраняя на физиономии все ту же болезненно-сонливую невозмутимость куда-то побрел, то и дело пошатываясь. Только выглянула из-за угла какая-то старушка-хлопотунья, и на личике у нее отразилось любопытство и легкое недоумение. Видимо, так задумано не было. Видимо, этот нищий был неходячим. Всего-то и чудес.
А главное чудо совершается и вовсе в стиле брессоновского минимализма. Рыдающий падре Пио сидит в своем углу перед большим распятием с гипсовой фигурой Христа. Камера смотрит на Пио — он всхлипывает, бессильный помочь кому-нибудь, камера смотрит на крест — он теперь пуст. Только на плечо бедного Пио неизвестно откуда опускается чья-то рука. На руке этой — кровавая рана от гвоздя. Человек закрывает своей ладонью протянутую ему руку — и на ладони святого проступает стигмат.
В судьбе исторического падре Пио многое произошло после 1920 года (и исцеления, и строительство больницы, и паломничества к нему, и непросто проходившая беатификация), но Феррара здесь ставит точку. Потому что все просто и сказанного достаточно.
Текст: Лилия Шитенбург
Заглавная иллюстрация: © Christian Mantuano/Gravitas Ventures
Заглавная иллюстрация: © Christian Mantuano/Gravitas Ventures
Читайте также: