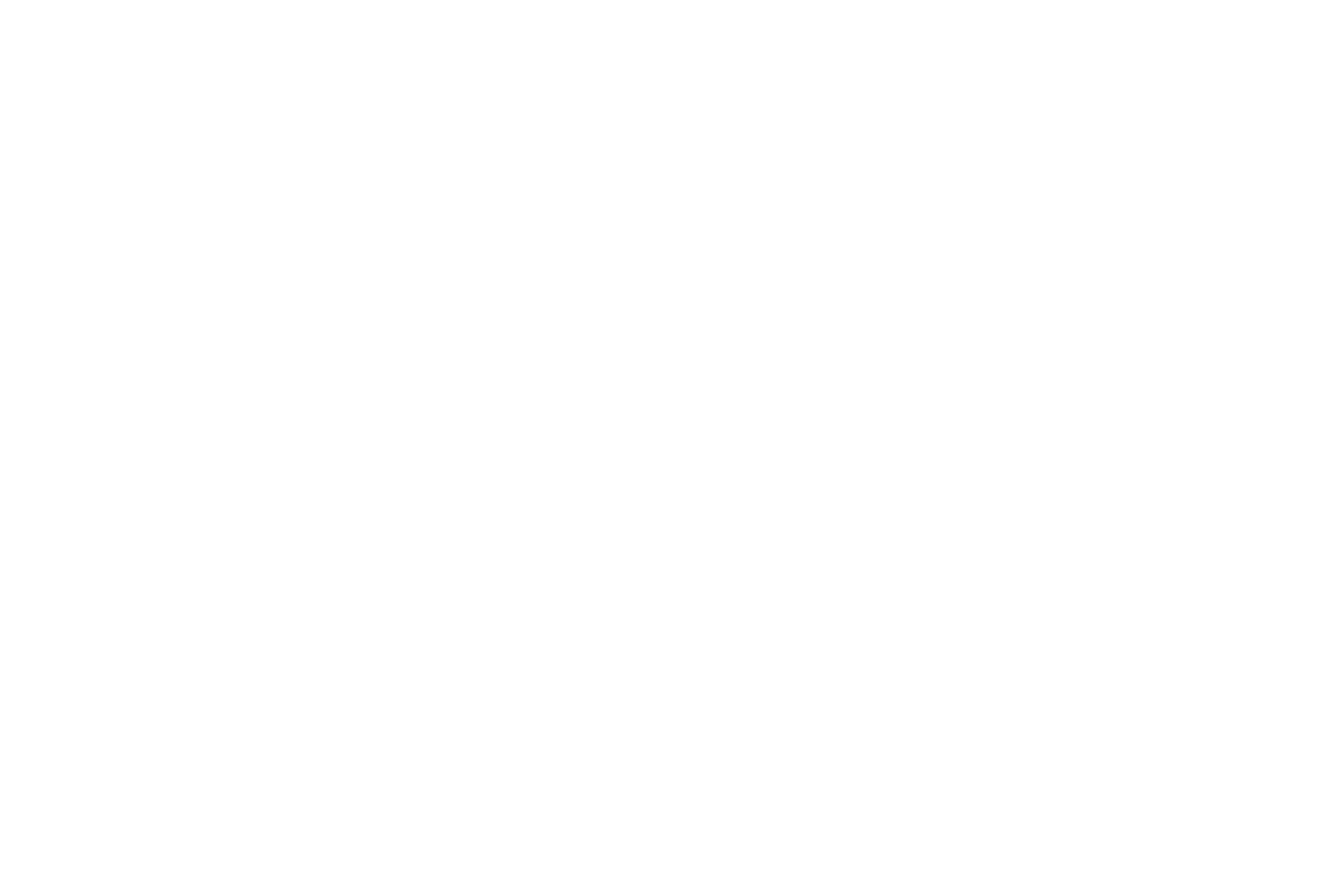Жозефина и мышиный король Алексей Гусев о «Наполеоне» Ридли Скотта 5 декабря 2023 |
Ревизией мифов кинематограф занимается с самого своего возникновения. Иные теоретики считают, что это занятие ему даже больше подходит, чем творение мифов. Возможность увидеть мир, человека или событие напрямую — холодным, немигающим, оптически-объективным взглядом камеры, — вот что позволяло великому множеству режиссеров, от Любича до Олтмена, обдирать лоск и пурпур с самых заветных, самых укорененных в коллективном сознании идолов. Насколько сия процедура благородна и общественно-полезна, а насколько — рискованна, вопрос важный, но праздный. Кино это может, вот и делает. Тем более, что в последние годы развенчание кумиров само вышло в кумиры.
Вот и Ридли Скотт, такой молодой, предпринял ревизию мифа о Наполеоне.
Историки уже успели поплакаться широкой аудитории об очередной сошедшей на них лавине неточностей, погрешностей и прямых ошибок; для исторических фильмов Ридли Скотта эти ламентации уже стали обязательным церемониалом. Что ж, историки в своем праве, — однако, вопреки очевидности, ревизорский пафос обязывает фильм к верности исторической правде не более, нежели любой другой авторский умысел, то есть — не обязывает вовсе. Не все истины низки, и не вся низость истинна; низвержение идолов — далеко не всегда признак трезвости. Развенчать миф — не значит отказаться от образности; в конце концов, на поле искусства эта последняя есть первейшая профессиональная обязанность. И если, скажем, в сцене Тулонской осады Хоакина Феникса, чей герой вдвое моложе актера, не сочли нужным омолодить гримом, — то, как бы ни сбивало это с толку, на то есть священное и неотчуждаемое право автора. Камера вправе увидеть персонажа таким, каким он является по сути, а не с виду; что ж, стало быть, согласно Ридли Скотту, Наполеону в любом возрасте было слегка под пятьдесят. Спорное ли это режиссерское решение? О да. Но оно и обязано быть таким. И это точно оно.
© Apple Original Films / Sony Pictures
Здесь, однако, возникает загвоздка, — да не одна, а сразу целая россыпь. Права обременены обязанностями; за свободой от летописного начетничества во имя художественной образности неотменимо следует логичность и связность выстраиваемых образов — иначе это не образность, а прихоть. Автор волен совершить отбор событий (в чрезвычайно обильной ими биографии Наполеона иначе и не поступишь, от чего-то да придется отказаться) — но оставшиеся, отобранные должны соединяться внутри фильма в единую канву. Вот накануне Аустерлица Наполеону говорят: его противники, дескать, большие поклонники его полководческого мастерства и даже пытаются ему подражать. Какого, собственно, мастерства? К этому моменту из военных свершений героя в фильме показаны два: осада Тулона (эффектная, но мало применимая к полям сражений) и расстрел мятежных роялистов посреди Парижа. Решение не включить в сценарий итальянский поход, мягко говоря, причудливо, но само по себе возможно, и с тем, чтобы зримо увериться в военном гении Наполеона, зритель мог бы до Аустерлица и подождать. Но накануне битвы вдруг оказывается, что этот гений уже где-то проявлялся, что он уже составляет репутацию героя и определяет его взаимоотношения с другими персонажами (то есть, попросту говоря, логику сюжета). Хуже того: как «аванс» это тоже не работает, и под Аустерлицем единственное, что нам будет сказано об основном таланте главного героя, — это что он умеет поджидать и заманивать и что ловко проламывает пушечными ядрами лед под войсками противника. При этом Тулон и Аустерлиц — единственное, что осталось в фильме от наполеоновских побед. Ни Италии, ни Германии, ни Испании, ни Польши, ни Египта (последний эпизодически появляется, но не очень про войну); все остальное — это поражение в России и поражение при Ватерлоо. Как говорится в популярном интернет-меме, «а разговоров-то было».
Что же остается от Наполеона, если вычесть его военный гений? Угрюмый обрюзгший социопат, пугливый увалень с одышкой, мелочный и высокомерный авантюрист, проводящий весь фильм с одним-единственным насупленным выражением лица и поджатым вторым подбородком (сколь спокойно ни относись к актерским талантам Хоакина Феникса, такого он не заслужил — такого никто не заслужил). Он точно не мог бы разработать лучший в истории Запада Гражданский кодекс, и он точно не мог бы оказаться первым из великих правителей, заклеймившим антисемитизм, — тот персонаж, что ходит по фильму Скотта, ни о чем этаком и помыслить не умеет. Он с трудом одолевает те немногие аутентичные реплики, что оставлены ему в фильме, вроде речи про «корону, найденную в грязи», или поучений о ценности величия: этот текст слишком ясен и внятен для столь мутного взгляда и неуклюжей пластики. Зато бесконечный распев писем к Жозефине проходит закадровым фоном сквозь весь фильм: любая попытка императора быть лиричным воспринимается Ридли Скоттом с внезапным простодушным доверием и становится подлинным стержнем фильма. Этот Наполеон — не про гениальные стратегии, европейское единство или Гражданский кодекс, он — про страсть, грузную и яростную, пылкую и неумелую. Он и с Эльбы-то сбегает, потому что соскучился, и начало Аустерлицкого сражения озвучивает очередным письмом, потому как — ну, в командировке он, по служебной надобности отъехал, но мыслями — весь как есть с нею. Революция, коронация, дипломатия, военные кампании, изгнание, — все это оказывается лишь обстоятельствами, помогающими либо препятствующими любовной истории. Все прочее автор ценит невысоко и обдумывать не затрудняется. Наполеон вскрывает египетский саркофаг, молча общается с мумией, тыкает в нее пальцем и с отвращением смотрит на поднявшуюся пыль; Наполеон вылавливает из бокала муху и задумчиво ее рассматривает. Очень многозначительное у него в эти моменты лицо. Потому что он осознает бренность. Подлинный Наполеон был страстным книгочеем, возил за собой огромную библиотеку и сам переводил на французский Плутарха и Платона; Наполеон Ридли Скотта, по-видимому, прочитал в жизни всего одну книгу — «О тщете всего сущего». Собственно, одну на двоих с Ондатром. Да они даже похожи.
© Apple Original Films / Sony Pictures
Шутка, конечно, дурного тона, — но что поделать, фильм Ридли Скотта напрашивается на издевку. Вялый, рыхлый, выдающий невзрачность за сдержанность, вспыхивающий иногда эффектными сценами вроде подводных съемок при Аустерлице, неспособными наладить какую бы то ни было связность повествования (скорее уж разрушающими ее окончательно), — он если и способен развенчать какой бы то ни было миф, то скорее о Ридли Скотте, нежели о Наполеоне. Потому что любая ревизия мифа — как пафос, как умысел, как формат — обязывает автора, по меньшей мере, к ответу на один вопрос: почему миф когда-то вообще возник? Что в этом герое могло послужить причиной культу, длившемуся много десятилетий, как бы обманчив, фальшив и аморален этот культ на поверку ни оказался? В случае Наполеона этот вопрос имеет сугубо практическое, сюжетное значение: вся история Ста дней, даже один только эпизод встречи с Пятым полком по дороге в Париж настоятельно требует объяснений. Почему солдаты в него не выстрелили? Почему изгнанник вернулся в столицу с триумфом, не сделав ни единого залпа? Харизматик, пройдоха, краснобай, проходимец, лицемер, — сойдет даже самое оскорбительное из объяснений, но какое-то предложить необходимо. И необязательно сравнивать этот эпизод из фильма Скотта с великой сценой из «Ватерлоо» Бондарчука, чтобы увидеть, насколько бестолковы, несостоятельны и несуразны мотивировки, которые предлагает Скотт. Ничто из произошедшего в предыдущие два часа не объясняет, почему солдаты перешли на сторону Наполеона: ладно, пусть обманутые, легковерные, одураченные, одурманенные — но чем именно? Почему на экране произошло то, что произошло? Автор имеет право предложить любую причину, он даже имеет право наплевать на историческую реальность этой причины и выдумать взамен свою; одно условие: эта причина должна сработать. «Ребята, я скучал по вам, я хочу домой», — эти ли фразы разворачивают полковые орудия? Полноте, мистер Скотт. В том, у кого получился этот трюк, явно было что-то помимо любви к Жозефине.
Фильм Ридли Скотта вряд ли останется сколько-нибудь заметным явлением в истории «кинобонапартианы»: она богата как шедеврами, так и провалами, и, как ни странно, бывали там фильмы и побеспомощнее. Но один ее урок к фильму Скотта вполне приложим. Сложная логика исторических сцепок, — в рамках которой, если коротко, XIX век начался Наполеоном, а закончился кинематографом, — послужила причиной довольно причудливого феномена: любой режиссер, вознамерившийся поставить фильм о Наполеоне, обречен написать автопортрет. Неважно, каков замысел и какова стилистика, неважно, относится автор к своему герою с обожанием, с презрением или с взвешенной умеренностью, — эффект зеркала тут неизменен и неотменим. И, судя по всему, Ридли Скотт не избег этой общей участи.
Угрюмый, мелочный, высокомерный авантюрист, которому всегда под пятьдесят?
Что ж, похоже.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Apple Original Films / Sony Pictures
Заглавная иллюстрация: © Apple Original Films / Sony Pictures
Читайте также: