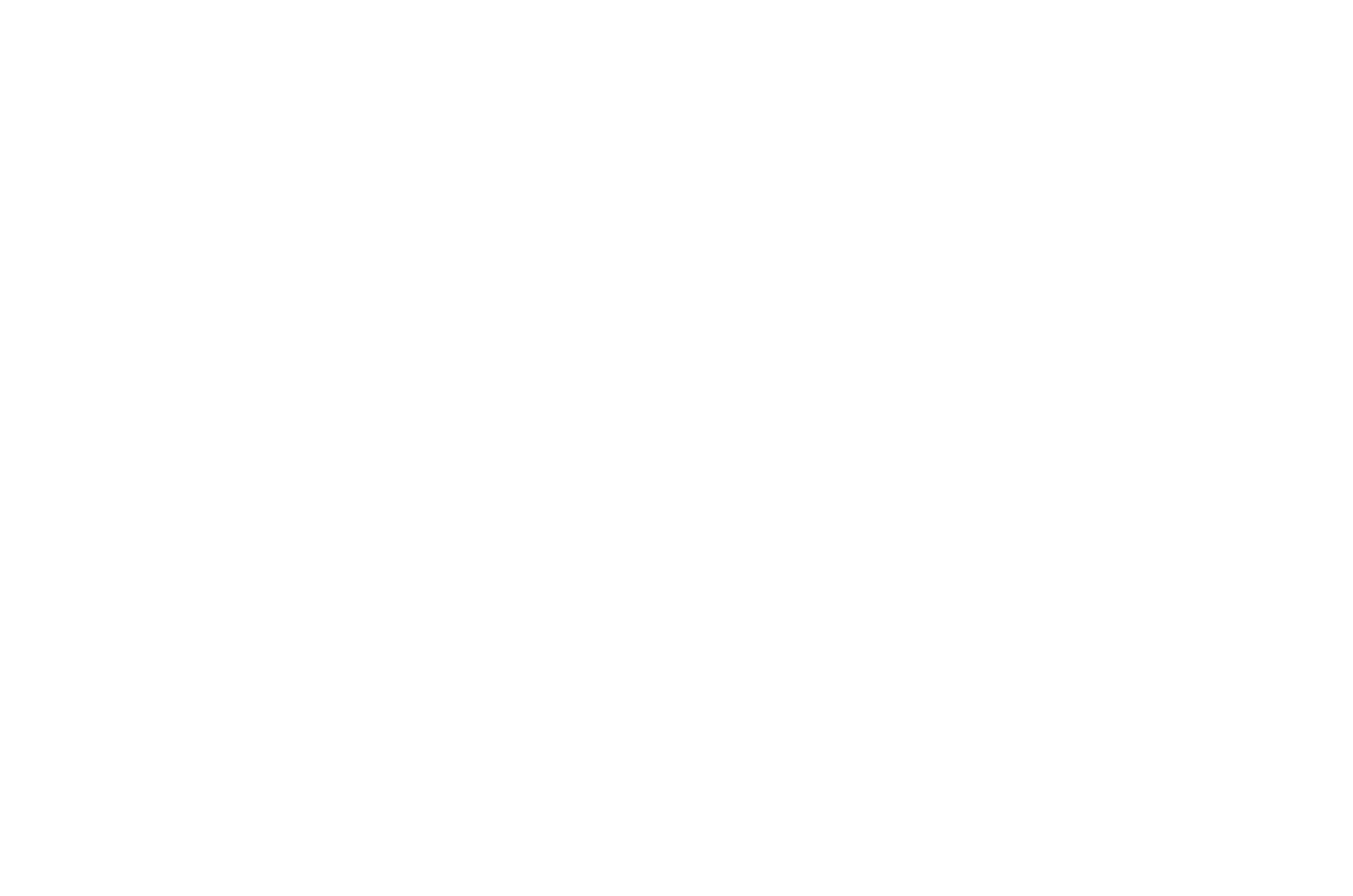| За миллиард лет до конца света Жанна Васильева о выставке «Не слитно, не раздельно» в Доме культуры «ГЭС-2» 7 июня 2025 |
Вы словно высаживаетесь на незнакомой планете, о которой, конечно, есть свидетельства. Более того, ее исследовала больше полувека Экспедиция, в которой были археологи, гидрологи, этнографы, палеоботаники, картографы, геодезисты, авиаторы и архитекторы… Но Экспедиция сама успела стать историей, а ее данные, рассеянные по музеям и архивам нескольких стран, в свою очередь требуют если не раскопок, то тщательного изучения и реконструкции. На этой планете случаются песчаные бури, здесь река в одну ночь может выйти из берегов или исчезнуть, поменяв русло. Здесь море высохло, оставив на память ракушки и остовы рыболовных лодок. Здесь грузовики застревают в барханах, а верблюды могут проваливаться по щиколотку в топкие болотистые почвы. Здесь, отправившись пешком «на разведку», глава Экспедиции нашел остатки приземистой круглой башни диаметром 42 метра, окруженные крепостной стеной. Местные зовут ее «Крепостью пропавших баранов». Может, потому что баранов в этой крепости отродясь никто не видел. А сама крепость, в которой толщина стен достигает 6-7 метров, похожа на обсерваторию. В стенах прорезано 7 узких окошек, выходящих на разные стороны. И астрономы предполагают, что крепость была ориентирована на созвездие Плеяд, по восходам и заходам которого жрецы определяли приход жары или паводка.
Экспедиции понадобилось почти 15 лет, чтобы подготовиться к раскопкам в этой крепости, что на местном наречии называется Кой-Крылган-кала. Из-под песков начинали проступать настенные росписи V–IV веков до н.э., рядом с погребальными урнами — оссуариями — нашли терракотовые статуэтки, а в других сосудах — письмена на неизвестном языке. И мир, укрытый горячими песками 25 веков, возник как зыбкий, словно мираж, образ.
В отличие от научно-фантастических романов, история Экспедиции и ее находок была реальной. Она называлась Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция (ХАЭЭ) и продолжалась с 1937 по 1991 год, а возглавлял ее Сергей Павлович Толстов (1907–1976). Его книга «Древний Хорезм», вышедшая в 1948 году, открывала и изучала древнюю цивилизацию в дельте Аму-Дарьи, впадавшей в Аральское море. И, по выражению востоковеда Бориса Литвинского, выводила археологию Средней Азии «из заводи краеведения на стремнину главного течения археологии и истории культуры Евразии». Если кратко, Хорезм, ставший научной сенсацией ХХ века, был похож разом на Египет и Помпеи.
Экспозиция выставки «Не слитно, не раздельно» Дом Культуры «ГЭС»-2 © Даниил Анненков
След летящей стрелы
Впрочем, при том, что в центре проекта оказывается Экспедиция, ее история и ее находки, выставка в ГЭС-2 меньше всего похожа на привычные археологические экспозиции. Прежде всего потому, что кураторы проекта Ярослав Алешин и Катерина Чучалина выстраивают его не только как рассказ об археологических открытиях, но и как размышление о методе работы археологов.
О чем тут вроде бы размышлять? Археологи копают, находят древности, описывают их, изучают и ценные находки отправляют в музеи. Все так. Но чтобы начать раскопки, неплохо бы понимать, где именно их стоит начинать. Если вы начнете раскапывать первый встречный бархан в пустыне, гарантий, что вы что-то сможете там обнаружить, никто не даст. А барханов в пустыне много, и такыров тоже немало. Получается, что археологи работают прежде всего с невидимым миром прошлого. Фактически суть их работы в том, чтобы сделать его видимым. И для этого иногда не обязательно начинать с перелопачивания, точнее — бережного просеивания культурного слоя. Иногда нужно взглянуть на землю с высоты птичьего полета, откуда видны старые русла рек, вдоль которых когда-то селились люди, высохших каналов или ландшафт, складывающийся в абрис границ трехбашенной цитадели дворца высокой крепости Топрак-кала…
Потому на выставке рядом со скульптурными портретами, фрагментами фресок, оссуариями, даже «черепками», найденными на раскопках, можно увидеть кадры аэрофотосъемки, которая делалась для Хорезмской экспедиции, фотографии, обмерные чертежи древних крепостей и рисунки, акварели их деталей и общего вида. Художники, работавшие в экспедиции, как и реставраторы, «собирали» разрозненные детали в целостный образ, фиксировали фрагменты, пустоты, разломы и неопределенности в общей картине найденных росписей, керамических скульптур или сосудов. Они давали представление о целом.
Ученый, художник, реставратор оказываются не просто коллегами по экспедиции. Они имеют дело с одними и теми же находками. Они решают сходные задачи: чтобы увидеть, нужно не только найти вещь, но и понять, что именно перед вами и как она могла выглядела пару тысячелетий назад. Даже обнаружить фрагменты древней стенописи в толще завалов очень непросто, не говоря уж об их извлечении и сохранении. К примеру, чтобы законсервировать на месте находки куски орнамента «Розетты в ромбовидной сетке» в Северном комплексе Топрак-кала, реставраторам понадобилось два года. Сам рисунок цветов и ромбов стал результатом кропотливой работы уже в лаборатории.
Как написала в брошюре, подготовленной для выставки, реставратор Музея Востока Александра Антонова, занимающаяся музеефикацией древних монументальных росписей: «Вопрос финального вида живописного фрагмента стоит так остро потому, что, по сути, предмет предстает перед зрителем и как документальное свидетельство, и как художественный образ». Собственно, это одна из главных точек пересечения интересов ученого и художника. Для кураторов выставки ГЭС-2 она становится той точкой, из которой вырастает проект «Не слитно, не раздельно». Проект, сплавляющий научные исследования и художественные замыслы.
Экспозиция выставки «Не слитно, не раздельно» Дом Культуры «ГЭС»-2 © Даниил Анненков
Рисунки и чертежи Владимира Пилявского, фиксировавшего каменную кладку сводов дворцов, акварели Вадима Пентмана, Марка Орлова, сохранившие орнаменты, фигуры настенных росписей, могут объединять написанные цветом фрагменты, линии, плюс — части, намеченные карандашом. Яркий рисунок цветом фиксирует видимую часть находок, карандашные линии — намечают утраченные части. Вместе они складываются в образ — фрагментированный, неполный, но тем не менее формирующий представление о целом.
Этими проступающими в росписях образами могут оказаться арфистка (и зал в Высоком дворце Топрак-кала так и будут называть — залом арфистки), дама с гирляндой, пряха, часть лица или крупная фигура в одежде… Важно, что утраченные части, пустоты становятся частью «мерцающего» образа.
Но с пустотами, фрагментарностью видимого работает и современное искусство. Акварели, зарисовки художников Хорезмской экспедиции и живопись Магомеда Кажлаева, Рустама Хальфина, Зигмара Польке в экспозиции словно продолжают друг друга. «Пограничная фигура», «Поле зрения» — эти работы Рустама Хальфина, вполне абстрактные на первый взгляд, осмысляют те же проблемы границ видимого, фрагмента и целого, которые решают реставраторы и археологи. Пустота, скрытая в пространстве сжатой или сложенной ладони, становится «рамкой» видения, подручным способом кадрирования, но и чувственным, тактильным образом. Рустам Хальфин этот сплав пустоты и полноты, рамки и образа соединил в придуманном им слове — «пулота». «Стрела» Магомеда Кажлаева, похожая на горизонтальную линию в верхней части холста, фиксирует след выпущенной стрелы, как археологи — следы исчезнувшей жизни. Зигмар Польке растягивает растр типографского снимка, превращая нечеткий образ в абстрактную композицию из точек. Приближение, увеличение тут оказывается синонимом механического видения, распадающегося облика, акцентирования способов видения и языка передачи образов.
Словарь архитектора
Так в этом проекте появляется еще один аспект — языковой, лингвистический. Собственно, название выставки «Не слитно, не раздельно» как раз и заявляет не только о трудностях различения в «пулоте» образа и рамки, точки и образа, но и о знакомых каждому школяру запутанных правилах грамматики. Можно ничего не знать об археологии, но каждый хоть раз в жизни зависал во время диктанта над проклятым «не», решая, слитно оно тут пишется или раздельно, какое тут правило или, наоборот, исключение из правил, и вообще — какая часть речи тут в тексте танцует танго с «не».
Экспозиция выставки «Не слитно, не раздельно» Дом Культуры «ГЭС»-2 © Даниил Анненков
Это лингвистический поворот выглядит вполне естественным в пространстве встречи с незнакомой культурой. Одним из свидетельств этой встречи становится восхитительная картотека востоковеда, архитектора, реставратора Бориса Засыпкина, работавшего в Средней Азии с 1920-х годов. Он записывал во время экспедиций у местных мастеров (усто — так к ним обращались с уважением) архитектурные и строительные термины. Например, состав и названия строительных материалов, способов постройки, названия видов кладки и строений. Цифровые копии 383 карточек, многие из которых сделаны из разрезанных карт или ненужных листов, чуть ли не впервые с 1953 года можно видеть на выставке как огромную парящую «таблицу».
Для Засыпкина этот словарь строительных терминов узбекского и таджикского языков представлял интерес профессиональный. Он не собирался повторять подвиг Владимира Даля. Но был убежден, что знание о традиционных строительных техниках и материалах бесценно и для реставраторов, и для историков, и для этнографов, и для археологов. Причем бесценно и с точки зрения практической. Так, обнаруженные в Бухаре вокруг мавзолея Саманидов куски застывшего старого «ганча» (смесь гипса и лесса) переплавлялись в новый раствор, который Засыпкин использовал при реставрации мавзолея. Иначе говоря, он стремился при реставрации использовать и старинные материалы, и технологии древности. Можно сказать, реставратор старался «говорить» на том же языке, что и строители древности. Это помогало минимизировать «вторжение» современности в памятник.
Биография Бориса Николаевича, который первоначально занимался изучением памятников в Москве (в том числе Сухаревской башни), Томске, Костроме, Крыму, полна драматических моментов. После ареста в 1934 году и ссылки, он в 1937-м уезжает в Узбекистан, где занимается изучением и сохранением памятников старины до конца жизни в 1955 году.
Поразительно, с каким упорством Засыпкин не только работал над созданием образа «первопамятника» в акварелях и фотографиях, например, мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, но и фиксировал все стадии реставрации, которая должна была оставить «впечатление старины». Он рассказывает, как известный узбекский архитектор «усто» Ширин Мурадов, уловив манеру древней кладки и расшивку швов, сам выполнял самые важные части работы.
Если реставрация оказывается одной из главных тем выставки, то рассказ о ней ведется на языке фотографий, карт, в том числе ирригационных систем, рисунков, дневников и современного искусства. Поэтому «перевод» становится ключевым приемом проекта. А образ словаря, картотеки невольно вызывает в памяти поэзию «на карточках» Льва Рубинштейна и искусство московских концептуалистов.
Экспозиция выставки «Не слитно, не раздельно» Дом Культуры «ГЭС»-2 © Даниил Анненков
Остановка — в пустыне
Естественное продолжение «лингвистического поворота» — речь, которая звучит в полотняных палатках. Почти таких, как выбеленные солнцем палатки археологов в пустыне, но более легких, маленьких, располагающих к передышке в путешествии по выставке в ГЭС-2. В палатках — аудиоинсталляции. Здесь рассказываются истории участников экспедиции разных лет. А среди них были люди выдающиеся.
Например, ленинградский архитектор Владимир Иванович Пилявский (1910–1984), который в 1939 году присоединился к экспедиции Толстова. Но в пески, на правый берег Аму-Дарьи, он приехал впервые годом раньше, в 1938 году. Его отправили в Туркмению, где Туркменский НИИ истории вел свои раскопки Хорезма, параллельно с экспедицией Толстова. Владимиру Пилявскому было 28 лет, и он занимался в основном проектированием промышленных объектов и реконструкцией исторических зданий, благо в Ленинграде их было предостаточно. Его отправили в Ашхабад, видимо, решив, что его опыт архитектурного «реконструктора» может пригодиться и археологам. Добравшись до Ашхабада, Владимир Иванович прямо с вокзала поехал в институт. Его встретила тишина и опустевшее здание. Как выяснилось, накануне и директор Георгий Карпов, и почти все научные сотрудники института были арестованы. И тогда ленинградский архитектор решил отправиться в тот же день… в пустыню, взяв с собой пару таких же молодых, как он, помощников. Трудно отделаться от мысли, что маршрут стремительной «пересадки» после многодневной поездки: поезд — вокзал — институт — пустыня, уместившийся в несколько часов, свидетельствует столько же об энтузиазме командировочного, сколько о его трезвом расчете. В пустыне, похоже, следователям НКВД было бы сложнее отыскать его с ассистентами, чем в городе. А перспектива нечаянной встречи с ними явно была менее вдохновляющей, чем поиски в песках следов исчезнувшей цивилизации.
Дневники Пилявского, как и статья юного практиканта Юрия Кнорозова, в 1946 году еще не обремененного мировой славой ученого, который смог прочитать письмена племен майя, звучат под сенью холщовых палаток. Складной стул, лампочка, динамик и листок с текстом об авторе заметок — антураж столь же аскетичен, как в пустыне. Звучащие тексты, как и документальная проза Милицы Земской, тоже ленинградки, попавшей в Узбекистан во время эвакуации из блокадного города, как и аудиопьеса об Игоре Савицком, написанная востоковедом Тиграном Мкртычевым, — это голоса свидетелей. Они рассказывают о личном опыте «приключения», то есть путешествия и встречи с Востоком, с незнакомой культурой, с обжигающим зноем, с ощущением себя первооткрывателями древней цивилизации.
Выбор Пилявского, Кнорозова, Земской и Савицкого в качестве рассказчиков определяется не только тем, что каждый из этих людей стал очень известен в своей области. Для каждого из них работа в археологической экспедиции положила начало «перемене участи». Владимир Пилявский проектированию промышленных зданий предпочтет реставрацию, Милица Земская будет писать книги, а Игорь Савицкий, покинув Москву, создаст знаменитый музей искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе, чье собрание объединит археологические находки, колоритные образцы одежд, посуды, инструментов каракалпакского народа, «туркестанского авангарда» 1920—1930-х годов и неофициальных художников 1960—1980-х…
Возможно, тот факт, что все эти рассказчики были молоды, когда впервые попали на раскопки, не были главными действующими лицами Экспедиции, а значит не могли выстроить единый магистральный сюжет рассказа о ней, оказывается скорее преимуществом, чем недостатком. Он дает возможность увидеть историю Экспедиции с разных точек зрения свежим взором не профи-археолога, а юнцов, умных, жадных до новых впечатлений, экзотики и приключений. Так возникает более объемный взгляд на историю Экспедиции, складывающуюся из фрагментов, как полиэкран из рандомных кадров проекции. Впрочем, этот прием задолго до полиэкрана хорошо знали романисты, которые отдавали роль повествователя о драмах истории «недорослям», вроде Петруши Гринева в «Капитанской дочке».
Жизнь после Экспедиции
Аудиоинсталляции посылают привет, с одной стороны, «Театру у микрофона», да и просто театру. С другой стороны — от них лишь шаг до инсталляций и фильмов. И если часть из них — архивные фильмы и известные произведения, например, Виллема де Кунинга из коллекции V–A–C, то другие созданы специально к выставке.
Экспозиция выставки «Не слитно, не раздельно» Дом Культуры «ГЭС»-2 © Даниил Анненков
Среди них — инсталляция «Дежурный чудак» Ирины Кориной. Название ей дал рассказ Валентина Берестова, ездившего на раскопки Древнего Хорезма не один год. Башенка с лестницей, увенчанная то ли пропеллером, то ли вентилятором, оплетенная желтыми газовыми трубами и завешенная тюлевыми занавесками, с неожиданной монументальной колонной, завернутой в ковры, что превращают ее из стелы в громадную когтеточку — отраду окрестных кошек, — таков живописный дом-чудак. Он сложен из того, что было, вписан туда, где осталось место, хранит морские звезды исчезнувшего моря и цветные керамические статуэтки, похожие на слепки снов. Сюжеты «снов», конечно, о море, и об Экспедиции. Здесь керамическая статуэтка проводника по пустыне с охотничьим беркутом слегка похожа на фигурки, найденные на раскопках Хорезмского царства. А сценка у костра чем-то напоминает лихих «Охотников на привале» Перова. Плывущие в лодке (их трое, не считая собаки), то ли поют, то ли просто жизни радуются. Чего не скажешь о другом участнике экспедиции, которого начальник, пытаясь разбудить ранним утром, вытряхивает невежливо из спального мешка — по крайней мере, такую сценку изображает керамическая композиция.
Веселые воспоминания тут смешиваются с горьким послевкусием трагедии Аральского моря, романтика песен у костра — с мифами, которые рассказывают старики, неуют походного быта — с радостью научных открытий. Этот «Дежурный чудак», стоящий вроде в стороне от центральной оси выставки, кажется, соединяет славные были об Экспедиции, мечты о воде, которая придет в пустыню, и настоящее, в котором вода ушла из моря, а Экспедиция превратилась в легенду.
Но, собственно, об этом так или иначе все новые работы современных художников, созданные специально для проекта «Не слитно, не раздельно».
В панорамной видеоинсталляции «С небес, она» китайская художница Шуи Цао накладывает интервью со свидетелями ухода воды из Аральского моря на мифы о появлении воды. Медитативное видео ливанского художника Али Шерри показывает хранителя раскопок в пустыне, превращая этого стража времени в стража неизменности, то бишь остановленного мгновенья в древнем могильнике. В «магическом кристалле» Маяны Насыбулловой трещины запекшегося от зноя такыра образуют рисунок на стекле музейной витрины, а чертеж древней крепости проецируется на холмики соли. Вместо игрушечной метели — мерцание света над невидимой водой. На листах вьетнамского художника Ле Занга рисунок создается рельефным тиснением бумаги и едва заметной тенью от рельефа.
Эти работы размыкают археологический сюжет выставки в современность и завершают три других ее магистральных линии. Это проект превращения пустыни в цветущий сад благодаря строительству новых каналов. Это поиск старых ирригационных систем и археологические раскопки, которые должны были помочь старые каналы поставить на службу будущему. Это превращение Аральского моря в пустыню как результат строительства каналов и увода воды из Аму-Дарьи.
Археология тут прочитывается как часть процесса модернизации. Модернизация становится прологом к экологической катастрофе. Пустыня, пески которой засыпают остовы старых кораблей, древних крепостей и рыбачьих поселков, возвращает свои права. А проект модернизации ждет своих археологов. В общем, все, как у Стругацких. Трудно быть богом, если ты человек.
Но все же, все же… Надежда и жизнь по-прежнему теплится в смешном самодельном домике «Дежурного чудака», где былое прячется в бабушкином серванте, а пропеллер-вентилятор на крыше обещает полет на ковре-самолете…
Текст: Жанна Васильева
Заглавная иллюстрация: Экспозиция выставки «Не слитно, не раздельно» Дом Культуры «ГЭС»-2 © Даниил Анненков
Заглавная иллюстрация: Экспозиция выставки «Не слитно, не раздельно» Дом Культуры «ГЭС»-2 © Даниил Анненков
Читайте также: