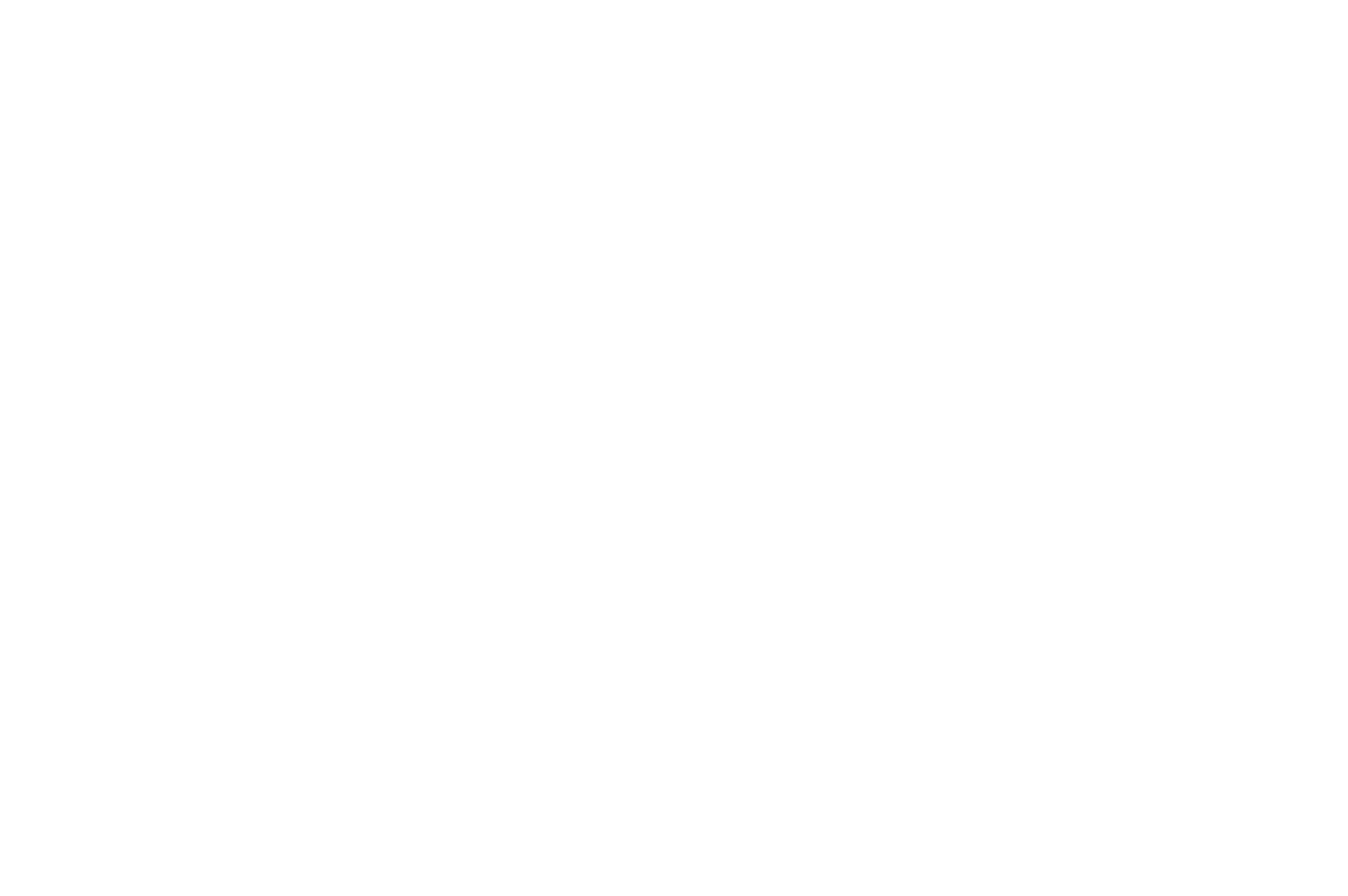| Духовидец Алексей Гусев о «Носферату» Роберта Эггерса 31 января 2025 |
Для Роберта Эггерса «Носферату» — то же, чем для Питера Джексона был его «Кинг-Конг», а для Фассбиндера — «Берлин Александерплац»: фильм, ради которого автор некогда вообще пришел в режиссуру. У таких, заветных фильмов свои риски — особенно когда они ремейки. Решившись наконец-то вступить в диалог с кумиром юности, которому автор, словно крестному, обязан выбором профессии, он подчас столь остро ощущает значимость происходящего, что фильм может оказаться похоронен под грузом этой высшей ответственности. Композиция расползается, размах разрастается, перфекционизм рулит, роятся и перегружают конструкцию смутные образы — а еще фильм утрачивает самостоятельность существования, черпая бóльшую часть своего смысла из диалога с оригиналом… Впрочем, из всех этих (и многих других) рисков «Носферату» не избежал, пожалуй, одного лишь последнего. В отличие, например, от версии Херцога, — уважительной, но гордой и даже порой строптивой, — Эггерс беседует с Мурнау в своем фильме так увлеченно, так подробно, с такой пылкой неофитской преданностью, будто мистер Роберт Эггерс, сорока лет от роду, — не один из лучших режиссеров последнего десятилетия, и не было у него самого ни «Ведьмы», ни «Маяка»… Хотя с другой стороны — а сколько их, ныне живущих и снимающих, которые в своем кино смогли бы повести полноценный и осмысленный диалог с Мурнау, пусть и не на равных? То-то; таких, пожалуй, после смерти Кубрика и вовсе не появлялось. А Эггерс вот — повел.
Здесь, однако, главная трудность разговора о «Носферату»: диалог с классиком калибра Мурнау, поданный в формате ремейка, — прекрасный материал для диссертации и очень скверный для рецензии. Это ж надо сначала объяснять, долго и нудно, почему ремейк — признак возрастания культуры, а не ее упадка, затем — уточнить, является ли Мурнау одним из ведущих режиссеров немецкого киноэкспрессионизма (нет, не является), а его «Носферату» — одним из первых шедевров в жанре хоррор (тоже нет); затем выявить, какие из стилистических фигур в эггерсовском «Носферату» уже были прежде в обиходе у Эггерса, а какие появились только сейчас, — и еще вот, скажем, Гремийон и Эпштейн, на чьи немые фильмы опирался «Маяк», их поэтика с поэтикой Мурнау в каких отношениях?… В обычной рецензии ворочать все эти академические пласты — занятие совсем необязательное, их можно разве что краем задеть. Но как быть, если фильм укоренен в этих самых пластах настолько глубоко, что эта укорененность и составляет подлинный сюжет фильма? Например, все приключения Тени (а они здесь настолько важны, что тень и вправду становится отдельным персонажем) — от кадра, где тень летит над городом, до сцены, где главный герой, Томас, оказывается прижат тенью вампира к двери, за которой находится сам вампир, — выглядят лишь умным и эффектным трюкачеством, пока не подтянешь сюда пресложную светотеневую метафизику кинематографа Мурнау (причем не одного лишь «Носферату», но еще и хотя бы «Фауста»). А когда главная героиня, Элена (которую в фильме Эггерса, возможно, не без умысла иногда называют «Лени»), призывает вампира, то высовывается из окна навстречу камере, — и суть эггерсовского решения этой сцены заключается в том, что она не видит за окном глядящего на нее вампира, тогда как у Мурнау этот кадр (и вообще домá главных героев и вампира, стоящие друг напротив друга, «окно-в-окно») был одним из ключевых для всего его фильма… Дело не в том, в общем, что Эггерс-де цитирует и варьирует классический оригинал, — он с ним именно что беседует, почти беспрерывно, то соглашаясь, то оспаривая, то впрямую, то уклончиво, и подчас кажется даже, что глядеть один фильм без учета другого — все равно что читать из диалога реплики только одного из собеседников.
«Носферату, симфония ужаса» © Prana Film
И все же, если б новый «Носферату» целиком сводился к схолиям на полях стародавнего шедевра, то и разговора не стоил бы; «заветность» замысла провалу не помеха. Но сколько бы ни скудел он смыслами и образной связностью вне контекста оригинала, — он, в конце концов, не только ремейк Мурнау. Он еще и фильм Роберта Эггерса. А значит, разговор неизбежен.
«Носферату», коротко говоря, фильм неровный; и если виной тому та самая «заветность» (а похоже на то), то не потому, что Эггерс от робости или амбиций «не справился», а потому, что присущие ему неровности здесь оказались крупнее и нагляднее — ведь это и должен был быть «самый эггерсовский» из всех его фильмов — и в хорошем, и в дурном. В классическом сценарии, написанном для Мурнау Хенриком Галееном, он обнаружил ту же тему, что была основной во всех его прежних фильмах: тему героя-«духовидца» (роднящую его с его почти однофамильцем Эверсом), точнее — тех героев, кто «владеет полнотой зрения», и тех, кто оказывается не в силах совладать со зрением, когда оно на них однажды обрушивается как проклятие. И во всем, что касается этого зрения — аффективного, тактильного, чувственного, прарационального, — Эггерс в «Носферату» превосходит себя. Неизъяснимо волшебен снег, падающий на Томаса на перекрестке; неизъяснимо смраден золотистый сумрак румынской таверны; неизъяснимо точны форма носа у монахини, нашедшей Томаса на берегу реки, и поджатая губа Элены в прологе, когда та от молитвы переходит к возбуждению, и чумные язвы на щеке Фридриха, горюющего на гробнице жены; и совсем уж чуду подобна та секунда, когда хлынувший за окном серый дождь вдруг начинает сплетать на оконном стекле тайнопись струй. Здесь нет ни одной приблизительной, дежурной, сугубо фабуле подчиненной панорамы; здесь даже обычное пробуждение ото сна выглядит как обнаружение реальности взамен тающего сна; а перемещения вампира по зале вокруг Томаса в их первой сцене оставляют далеко позади ту черту, на которой трюк мизансцены превращается в чистую магию кинопластики.
© FOCUS FEATURES
Однако точно так же, как во вкрадчивом проскальзывании зрения вглубь мира камере Эггерса с каждым фильмом все меньше равных, — так же монтаж, сочленение и сопряжение этих скользящих образов даются ему все натужнее: этого уже хватало в «Маяке», стало больше в «Северянине» и местами граничит с небрежностью в «Носферату». И если «ударные» монтажные фразы здесь продуманы и решены вполне безупречно (пролог так и вовсе превосходен), то обычная, проходная раскадровка эпизодов зачастую выглядит в лучшем случае необязательной, иногда — топорной (диалог Элены и Фридриха), иногда же — сведена к броскому эффекту (внезапный крупный план с дочерями Анны). Судя по тому, с какой настойчивостью Эггерс даже в простейших случаях предпочитает поворот камеры монтажной склейке, он вполне отдаёт себе в этом отчет. Если не в том, насколько у него тут мало получается, то хотя бы в том, насколько он это не любит.
Это не то чтобы досадный просчет или профессиональный дефект — это простая изнанка тех свойств эггерсовского кинематографа (а такое понятие уже точно существует), что составляют его характер и картину мира. Режиссеры, которым свойственно монтажное мышление, как правило, мыслят точками зрения и композициями кадра, — но у Эггерса камеру характеризует не точка зрения (хотя в «Маяке» он, помнится, еще старался), а способ бытования, точнее — манера скольжения. Эггерс работает в «Носферату» не изображением, пусть и движущимся, но движением изображения как таковым: так вампир скользит вокруг Томаса, так корабль бежит по морю — и в точности эта же опора для поведения камеры, кстати, была и у Мурнау, и на тех же основаниях). Изумительно эффектные, прекрасно скомпонованные, кадры из его фильма, — даже самые, казалось бы, спокойные и статичные, — стоит их остановить, оборачиваются помпезным, аляповатым, дешевым в своей дороговизне зрелищем. А все потому, что, глядя на мир, камера Эггерса видит в нем главным образом тот трепет, который ее же вúдение — ее духовидение — вызывает в мире: сбои, сполохи, рябь, дрожание губы, бурление скрытого кровотока. Недаром ни один из режиссеров-классиков так не способствовал раскрепощению движения камеры, как Мурнау; и недаром, глядя на исполнительницу роли Элены, Лили-Роуз Депп, дочь звезды беккеровской «Элизы» Ванессы Паради, многие — что зрители, что критики — поминали Аджани, — но не ту, что играла в беккеровском же «Убийственном лете», и даже не ту, что была Эленой в «Носферату» у Херцога, а ту, что превзошла все мыслимые пределы актерского ремесла в «Одержимой» Анджея Жулавского. И это не внешнее сходство рисунков роли — это сходство отношений между камерой и актрисой. Не стоит придавать слишком много значения тому, что у Жулавского, мол, камера всегда неслась опрометью, а у Эггерса она скользит и крадется, — важна не скорость, важна сама безостановочность движения, позволяющая камере обнаруживать и растормаживать иррациональные зазоры там, где иные мастера довольствуются рациональностью чертежной миллиметровки. Потому самое страшное поражение в фильме терпит друг главного героя, Фридрих, — рационалист, абьюзер и прогрессист, считающий крыс грызунами, а одержимость истерией; прав же оказывается профессор фон Франц, возвещающий «Бог выше морали» — и, единственный из живых, остающийся в кадре в финале: обрамленным отражением в зеркале над телами двух монстров. Потому ли его играет Уиллем Дефо, что он любимый актер Эггерса, — или потому, что он когда-то играл в «Тени вампира» Макса Шрека, исполнителя роли Носферату у Мурнау? И точно ли это две разные причины?
© FOCUS FEATURES
…Про что только не смотрят и не будут еще смотреть «Носферату» Эггерса. Одни — про сексуальность и преодоление стыда любовью; другие — про язычество, что правит триумф над иллюзией рациональности; третьи — про сущность меланхолии (тут особенно много занятного будет для тех, кому довелось читать «Чернила меланхолии» Жана Старобинского); четвертые — про то, приходит зло извне или же изнутри человека (тут лучше без спойлеров); а про что будут смотреть те, кто увидит здесь высокобюджетный хоррор с красивыми картинками, лучше и не гадать. И все, как обычно, будут правы. Но, в конце концов, исходный сюжет этого «заветного» фильма — в том, как один режиссер постарался заново увидеть то, что было порождено зрением другого. Не это ли имеет в виду эггерсовский Носферату, говоря о себе «я есмь голод»? Возможно, вся суть — и фильма «Носферату», кто бы его ни ставил, и кинематографа как такового — к этому и сводится: к одержимой ненасытности зрения, становящейся воплощенным зрелищем. В конце концов, если раз в полвека Носферату под прицелом очередной кинокамеры восстает из гроба, значит, это кому-нибудь нужно.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © FOCUS FEATURES
Заглавная иллюстрация: © FOCUS FEATURES
Читайте также: