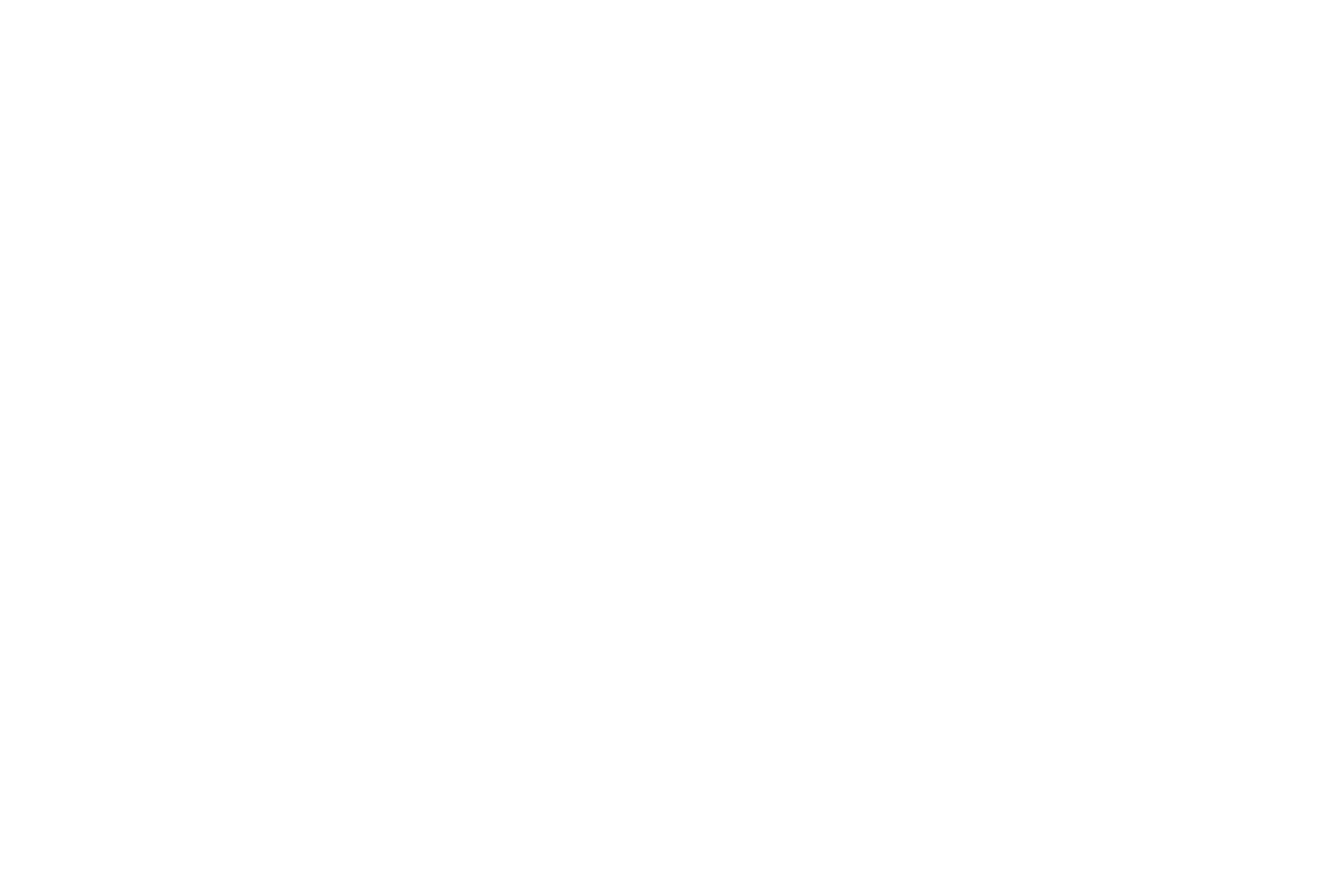| Мутно небо, ночь мутна Алексей Гусев о «Битве после битвы» Пола Томаса Андерсона 24 октября 2025 |
О «Битве после битвы» Пола Томаса Андерсона высказались уже, кажется, все, — разумеется, кроме вашего верного, но нерадивого слуги. Одни с ходу, прямо-таки с ноги пророчили фильму титул шедевра и бронь в истории кино (и зря — не потому, что история кино так уж требовательна, а потому, что слишком уж прихотлива). Другие скептически цедили свое заветное «ну и что тут нового». Одни поминали Фолкнера, другие кривились от повесточки. Одни радовались тому, что революционеры показаны сочувственно, другие — тому, что те показаны скептически. Одни признавали, что раньше Пол Томас Андерсон был отличным, а здесь стал еще намного отличнее; другие тоже поминали былые заслуги Андерсона, но ныне констатировали закат и упадок, а то и сдачу и гибель. На похвалах Ди Каприо, впрочем, привычно сошлись почти все, на похвалах Шону Пенну — чуть ли не все вообще; во всем же прочем, коротко говоря, царила изрядная разноголосица. А кто-то из безвестных обронил что-то вроде «ну да, он попроще прежних фильмов Андерсона, но это потому что более жанровый…»
Как ни странно, к этой незатейливой реплике стоит присмотреться. И не для того, чтобы увязнуть в сложных рассуждениях о том, применима ли к понятию «жанровый» сравнительная степень. Просто жанр здесь, если приглядеться, и вправду заковыристый. Не то чтобы «поперек материала». Скорее — вдоль.
Если посмотреть на материал «Битвы» отдельно от режиссуры, то там не просто много неувязок — там увязок раз-два и обчелся. Ди Каприо играет ветерана революционной борьбы Пэта «Гетто», который вот уже 17 лет пребывает в бегах — с тех самых пор, как его и всю его группу подпольщиков French 75 заложила на допросе его бывшая, Перфидия, оставив у него на руках малышку-дочь, а сама оказавшись под программой защиты свидетелей; впрочем, из-под этой защиты она тоже однажды сбегает в неизвестном направлении, чтобы больше в фильме не появиться («сражается теперь, наверно, в Кубе или Алжире»). Дочь, Уилла, не знает, что ее мама жива и стукачка, а Пэт не знает, что Уилла ему не дочь, — она дочь жестокому полковнику Локджоу, который когда-то увлекся своей неистовой классовой противницей. Но поскольку Перфидия была черная, а полковника Локджоу вот-вот примут в тайный элитный клуб расистов, то ему позарез надо разыскать и убить свою межрасовую дочь…
© Warner Bros.
Нет-нет, во всем изложенном особых пробелов еще нет, пусть даже само по себе смешение сюжета об ультралевых подпольщиках с фабульным ходом про страшную тайну отцовства и выглядит слишком причудливо, чтобы можно было спокойно счесть его ироничным. Но дальше, воля ваша, концы с концами не просто сходятся — даже не раскланиваются при встрече. Скажем, Уилла, которая до начала захватывающих событий никаких особых способностей к подпольной борьбе не выказывала, за считанные часы сюжета выбирается из целой цепочки безвыходных ситуаций, по большей части — исключительно благодаря своей ловкости, смекалке и невесть как обретенной бестрепетности. И наоборот — Пэта, который после 17 лет жизни в бегах заявляется за помощью к своим былым боевым товарищам, иначе как легендой не величают (хотя, в терминах резидентов Comedy Club, его скорее следовало бы называть странным словом «легендарий»), — но за два с половиной часа фильма он умудряется не преуспеть вообще ни в чем. Когда стреляет — промахивается, когда перепрыгивает — недопрыгивает, когда гонится — не догоняет. Дочка вот стала профи за несколько часов, папа же так и не стал за много лет. Это, конечно, тоже можно бы счесть иронией (а что нельзя?), можно даже помянуть всуе великий фильм Коэнов «После прочтения сжечь», — но казус в том, что вся эта тотальная недотепистость великого подпольщика ничуть не ставит персонажа под сомнение. Ну вот так он остро на все реагирует и никак собраться не может, потому что девочка ведь в беде. Это временами почти забавно — наблюдать, как Ди Каприо, который за последние 20 (или, скажем, 17) лет каких только по-настоящему больших ролей не сыграл, от Скорсезе до Тарантино, вдруг принимается хлопотать, истерить и дергать пухлыми щеками ну совсем как встарь. Что-то гложет Пэта «Гетто».
Ирония так ирония, ладно бы, пусть, флюидность авторской интонации Андерсона позволит ее заподозрить почти где угодно, — но даже там, где вроде бы все всерьез и даже не без слезы, реплики, торжественно изрекаемые на пике драмы, никак не желают скликаться с сюжетом. «Все революционеры начинают с борьбы с демонами, а заканчивают борьбой друг с другом», — эту фразу успели процитировать многие, отдавая должное трезвости авторского взгляда на вихрь революционной борьбы. Вот только ничего такого в фильме не происходит. Никакой «борьбы друг с другом» тут нет — если не считать за таковую то, как легко героическая Перфидия сдает своих товарищей; но сдается, стукачество — это все-таки не совсем разновидность борьбы, разве что уж в совсем легком весе. Что же до борьбы с демонами, то, как бы самоотверженно ни играл Шон Пенн гротескного служаку (он, к слову сказать, и впрямь неотразим), этот гротеск клонит его роль вовсе не в демоническую сторону. Зато особую двусмысленность этой фразе, подаваемой как ключевой, придает то, что главный текст мировой литературы об ультралевых подпольщиках-террористах — «Бесы» — на все европейские языки переведен под названием «Демоны» (Demons). Так с чего бишь, говорите, они начинают и чем, наоборот, заканчивают?..
И такого разнобоя, большого и малого, в фильме Андерсона — под завязку. Что-то легко можно «списать на иронию» (в нескольких эпизодах она здесь, несомненно, присутствует, — например, в уморительном телефонном разговоре с современным подпольщиком-связным, который в ответ на отвязную ругань Пэта упрекает его в «неэкологичной коммуникации со звуковыми триггерами»), что-то сложнее, что-то и вовсе нельзя, и ничто из этого «списывания» ничего не объяснит, только чуть утишит зрительскую тревогу (слово «ирония» в зрительских откликах вообще в последние лет двадцать бытует на правах аминазина, произнес — и полегчало). Но именно здесь и оказывается таким нужным такое случайное слово «жанровый». Оно здесь как угол, под которым надо посмотреть на фильм, чтобы в нем все внезапно встало на свои места.
© Warner Bros.
Здесь было бы долго объяснять, почему слово «жанровый» отнюдь не противоречит, вопреки расхожему мнению, слову «авторский» — скорее уж, наоборот, делает его правомерным. Достаточно сказать, что режиссура в фильме «Битва после битвы» — в отличие от того, что сейчас в основном принято считать режиссурой, — безусловно, является режиссурой. В ней есть очевидные провалы (вроде первой сцены автомобильной погони, которая, кажется, смонтирована по рецепту из старой бардовской песни «вставлю перья от павлина, чтоб гудели на ветру»), есть и очевидные высоты (финальная погоня по холмистому хайвэю блестяще задумана, хотя и простовато исполнена, а вот сцена встречи Локджоу с дочерью хоть и проста, как апельсин, зато так же безупречно прекрасна). Но едва ли не главной ее опорой становится музыка. Не потому даже, что она хороша сама по себе (хотя от постоянного композитора Андерсона и ведущего гитариста Radiohead Джонни Гринвуда вряд ли можно было ожидать меньшего). А просто потому, что ее — много; очень много. Она здесь почти всюду, она без стеснения заполняет «Битву», в буквальном смысле, «чуть менее чем полностью», и в большинстве эпизодов она, словно палас в съемном домике на черноморском побережье, просто настелена от стены до стены. Она ведет, держит, несет, погоняет действие. И в этом, собственно, запойном мелодизме, определяющем все, что творится на экране, — главный ключ.
Потому что фильм «Битва после битвы» — с его тайной отцовства, с бесстыдно слезливым финалом, с приносящим себя в жертву негодяем, с непутевым инфантилом в ранге легендарного подпольщика и с жертвой страсти в ранге главного злодея — есть образцовая, беспримесная, чистопородная мелодрама. И Джонни Гринвуд с лихвой обеспечивает ей ту самую полноправную приставку «мело-».
Бессмысленно спрашивать, что за политические цели у знаменитой подпольной группы French 75, — в этом фильме о тяготах подпольной борьбы вряд ли сыщется что-то конкретнее стереотипного «мир трущобам, война кабинетам», да и то лишь подразумевается. Бессмысленно предъявлять к любому из этих персонажей требования психологических мотивировок или условий социального бытования — их здесь просто нет. Ни один из героев не предъявлен в состоянии покоя, хоть ненадолго, хоть на правах экспозиции, — они тут сплошь мчатся да вьются, ни у кого нет места жительства — лишь места обитания, и каждый из них — на надрыве и надломе сантимента, и нет в них ничего определенного и действенного, кроме непрестанных влечений и тяготений, развернутых Гринвудом в безграничье саундтрэка: чувственные сгустки, протуберанцы страстей, дешевых и безотказных, для которых и революционная борьба — лишь форма сладострастия, и ненависть к борцам — она же, просто чуть иная. Едва ли не единственные два эпизода в фильме, куда музыке нет хода, — это совещания в том самом клубе расистов; вот эти — и правда нелюди, и холодному властолюбию и алчности Андерсон в звании «страсти» отказывает наотрез. А персонажу Пенна — нет, и пусть он, казалось бы, лишь хромая жестокая кукла, — страсти ему вéдомы не меньшие, чем его миловидным жертвам: его жестокость замешана на таком же влечении, а его властолюбие в дарованном ему финале почти трогательно. Как драматический герой он слишком конспективен, как трагический — слишком плосок; но на самом-то деле «злодей» — классическое мелодраматическое амплуа. Все эти герои, вполне по современным заветам, живут одними лишь чувствами, и именно на уровне чувств (намного более редкий, чем принято считать, случай в истории кино) проложен подлинный сюжет фильма Андерсона.
© Warner Bros.
Именно этим и обусловлен финал, который с любого другого ракурса выглядит попросту несусветным, — семейная идиллия отца с дочерью, которая, проявив перед этим столько искусности в вооруженной борьбе, всего-то навсего отправляется, теша отцовскую гордость, примкнуть к протесту в одном из парков и ради этого даже отрывается от посиделок на уютном диванчике. Жанр превозмогает материал; мелодрама про ультралевых — все равно мелодрама, и ей положена буржуазнейшая развязка, для которой в фильме Андерсона разве что потрескивающего камина недостает.
Точно выдержанный жанр — не индульгенция. Сколько хорошего ни говори о режиссерских решениях Андерсона в «Битве за битвой», Жулавским он не станет, — та самая буржуазность неминуемо утяжеляет темп и делает сюжет заложником жанровых клише, да и разлаженность монтажа во многих сценах не столько порождает смятение страстей, сколько размывает драматургию. С другой стороны, разве в этих оплошностях нельзя усмотреть такое же смятение страсти, просто уже авторское, — такое чувственное, немного недотепистое и очень живое? В конце концов, прикидываться левым во имя буржуазного уюта — это так по-людски. По крайней мере, еще недавно было.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Warner Bros.
Заглавная иллюстрация: © Warner Bros.
Читайте также: