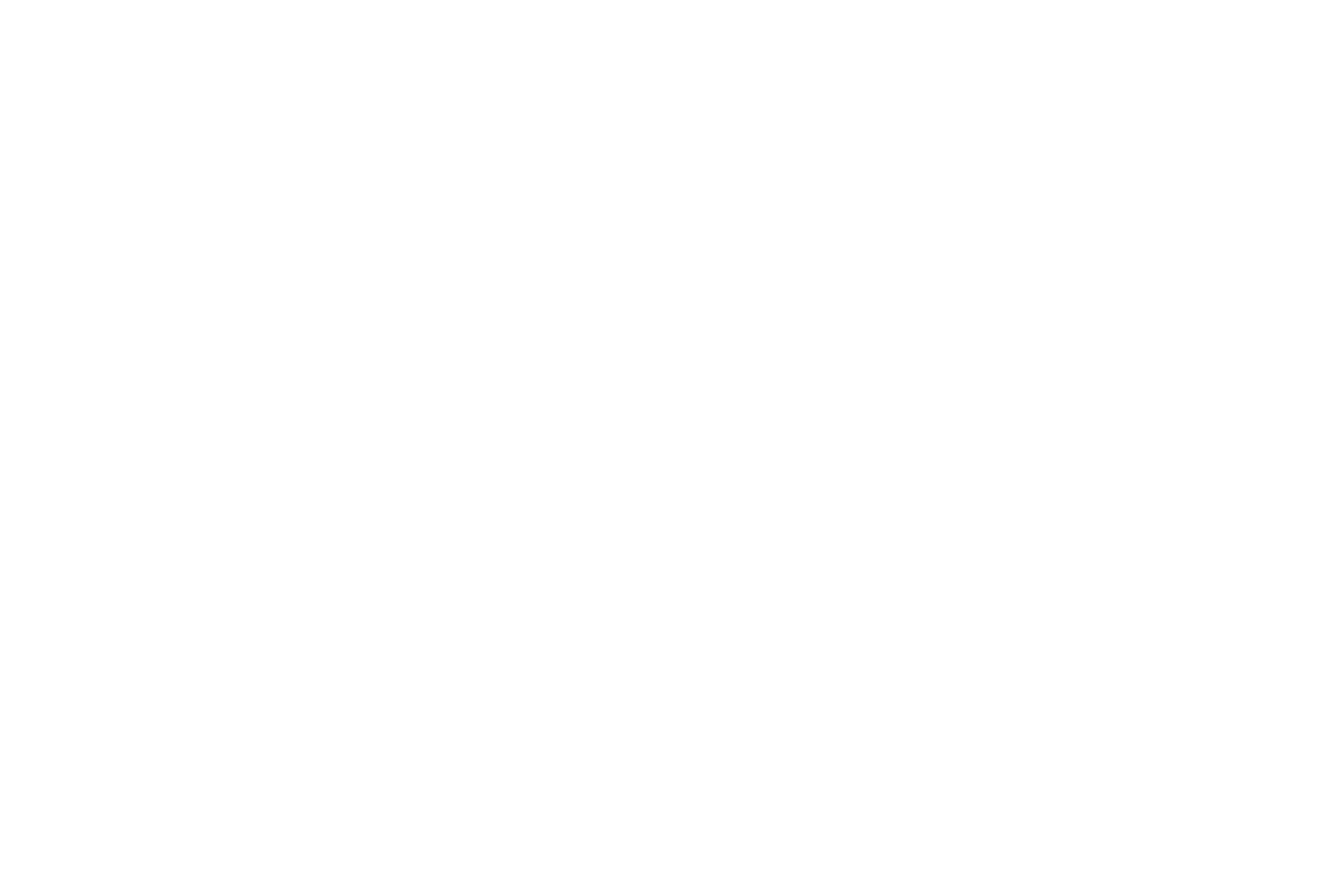| Жив-человек Памяти Александра Митты 16 июля 2025 |
Он был весел, и его любили.
Он был умен, и его уважали.
Он был человечен, и с ним дружили.
А еще Александр Митта любил жизнь. И вот этого с ним разделить было некому.
Из всех отечественных режиссеров той второй половины советского века разве что еще Михаил Калик, успевший отсидеть сам, любил жизнь так же безусловно и безоглядно, как Митта, у которого в семье отсидели все, кого не убили. Прочие коллеги — в том числе те, чьи фамилии звучали, да и доныне звучат куда громче — любили кто что: человека, кино, Бога, Баха, весну, осень, покой, непокой; себя, наконец. Митта же любил — жизнь: как таковую. Которая движется, пульсирует, прыщет, стонет и взметает. Которая нелепа в своих лучших проявлениях и невыносима в высших. Которая как кино в его прославленной книге — между раем и адом. Когда юноша с фамилией Рабинович, нелепой и невыносимой, взял себе псевдоним Митта, никто не знал, что это слово в иудейском ритуале означает носилки для покойника. Так любить жизнь умеют лишь те, кому никогда не было отпущено воспринять ее как норму и данность. Она не раскинулась привольно между раем и адом: она между ними зажата. Бьется, как вена между шинами.
Еще он был очень свободен, Александр Митта. Богатырская красота Довженко, у которого он отучился два месяца, и умная ирония Ромма, у которого он учился остальные четыре года, равно привили ему во вгиковскую пору умение ускользать от любых прописок, даже самых почетных. И пока, скажем, его одногруппник Тарковский воспарял в эмпиреи высокого мученичества, а одногруппник Шукшин приникал к почве и красной, как калина, крови, и пока его поколение, как на лагерной перекличке, рассчиталось на сосредоточенных одиночек-авторов и сдавшихся сереющей эпохе драмоделов, — Митта во всяком фильме находил ту точку, в которой жизнь преодолевала бы сюжет. И после каждого из них когорта критиков — умных, тонких, вдумчивых — куда-нибудь его поселяла и прописывала: в «аналитики» («Звонят, откройте дверь»), в «сказочники» («Сказка странствий»), в «жанровики» («Экипаж»), в «лубочники» даже («Сказ про то, как царь Петр арапа женил»). И все было не то. Не совсем то. И аналитика не абдрашитовская, и лубок не овчаровский, — не было и нету там, в фильмах этих, той густой и всецелой преданности найденной линии, которая позволяет эту линию гнуть, и длить, и превращать в траекторию судьбы и в сюжет творчества. Любой из этих сюжетов жизнь тоже преодолевала. Каждый фильм становился и оставался штучным. Единожды прожитым. Несложно в «Сказе» увидеть лубок. Но нужно было дождаться «Экипажа» и «Сказки странствий», чтобы увидеть, что лубок этот — шагаловский. Там люди летают.
Страха в нем не было, вот что. Не только того, который сдавливает и вылущивает дух из души, — но и того, который подстегивает, и того, преодолевая который, обретаешь закал, а то и величие. И потому, какие бы славословия, пылкие и небрежные, ни звучали сейчас в его адрес, — не было в Митте величия, как не было его в мироновском Орландо. Была — дерзость его избежать. Дерзость переложить реверс. Дерзость плясать среди чужих пиров и собственной чумы. Он вообще был очень пляшущий человек, Александр Митта, — просто музыку к этому плясу ему писал Шнитке. И потому пошлого страха перед пафосом у Митты тоже не было — нет во всем отечественном кино (по крайней мере, звуковом) финала пафоснее и патетичнее, чем в «Сказке странствий», нет катарсиса выше и чуда невыносимее. Но от кульминаций в фильмах Митты сердце ничем не полнилось — ни ужасом, ни гордостью, — оно, наоборот, рвалось, ничего более не в силах удержать. И там, где садился самолет на обледеневшее поле, где пылало красным светом немыслимое лицо лагерника Жженова, где все сидели, обхватив головы крест-накрест, — вместо фанфар и литавров через мягкий фокус дождя лился вальс, и под него скатывались дети по трапу как с горки, — и под него целовала женщина землю, которую уже не чаяла обрести.
И под него вскакивал вдруг с носилок человек и начинал бегать, приплясывая и крича: «Я живой!».
С тех самых носилок, с которых только и можно вскочить с этим криком. С тех самых, которые — митта.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Serge Serebro
Заглавная иллюстрация: © Serge Serebro
Читайте также: