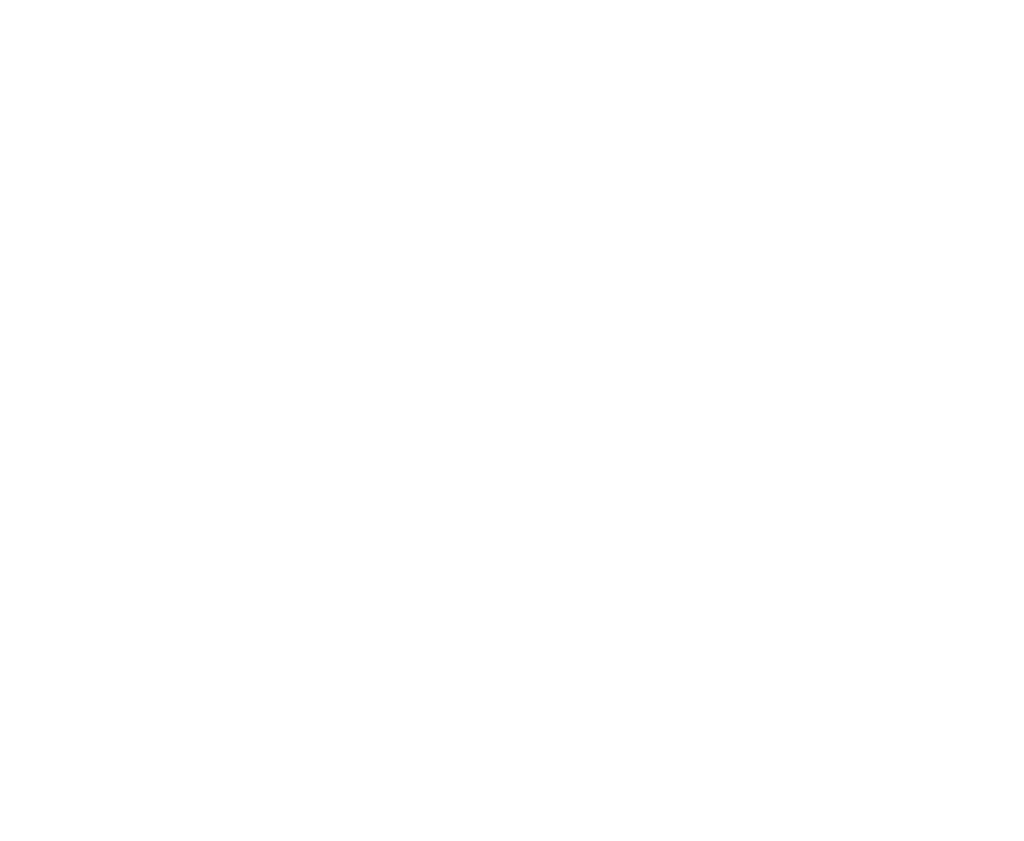| Живая точность тайн Памяти Дэвида Линча 21 января 2025 |
Превыше всего Дэвид Линч ценил ясность.
Не ту, что разглаживает вещи, делая их плоскими, нагими и услужливыми. Энтузиаст цифровых технологий, он предостерегал от слишком высокого разрешения: в таких кадрах, говорил он, есть только то, что там есть, и ничего больше. В такой траве не притаиться уху.
Его мир шероховат и шершав. Линч любил потрескивание табака на конце сигареты, занимающейся пламенем, и чейнстоксовское дыхание люминесцентных ламп, и тертую матовость помады, и скрип кожаной куртки, и клацанье фильма на склейках, и зернистость эмульсии, и сосновую смолу, и бархат, и кожу, и кофе. Только он умел экранизировать запах. Умел увидеть, как пар заваривает воздух. Самый ясноглазый из гениев зрения.
Ясность — не то, что изгоняет тайну, но то, что позволяет к ней прикоснуться. Обнаружить прорезь в завесе. Проникнуть. Погрузиться. И познать.
Он был великодушен и добросердечен; он был начисто лишен гордыни, многозначительности и, кажется, иронии; он был почти что прост. Удовольствие от творческого процесса описывал как «радость щенка, гоняющегося за своим хвостом». Верил в просветление разума, в трансцендентность самопознания и в мир во всем мире. Не считал зло ни досадным изъяном, ни темным властелином, — он, казалось, ничего и ведать не ведал ни про власть, ни про досаду. Из самой густой, самой кромешной тьмы — синей, красной, сумеречной, — старался выйти к свету (финал заключительной новеллы «Гостиничного номера» почти бесстыден, почти религиозен в своей прямоте). И шел к нему ощупью, ощупью. Словно по плотности воздуха ощущая, насколько тот светел.
Как и едва ли не все режиссеры, завороженные способностью киноизображения аккумулировать тайну, — от Ганса до Кубрика, — Линч был чистым интуитивистом; аналитика была ему скучна и мелка. Он вглядывался, вслушивался, внюхивался, втирался в мерцающие и вспыхивающие фрагменты собственных замыслов, и те начинали дышать, вибрировать, почковаться, ветвиться и срастаться. Но, чуждый всякой взбалмошности и самолюбования, он почитал интуицию инструментом, а не кумиром, и, ведóмый ясностью сознания, взыскивал ясности конструкции; экранные миры Дэвида Линча были империями, а не коммунами. У кино есть свой язык, говорил Линч, а значит, все элементы до единого должны сопрягаться друг с другом; и если интуиция пригодна для построения фильма, то потому лишь, что она точнее и пристальнее любой аналитики, и строй выходит более цельным и надежным. Так что самое нелепое, самое смехотворное и вопиющее из множества заблуждений, бытующих на счет кинематографа Линча, — это каким бы то ни было образом прилагать к нему слово «сюрреализм». Там, где Бретон, Супо или Бунюэль занимались методичным разъятием изолгавшихся культурных кодов и остраняли их фальшь прихотливой механикой бессознательного, Линч слагал, крепил и уплотнял структуры своих фильмов, упоенно налаживая все новые, глубоководные связи и переклички между идеями и явлениями, — и равно чурался и прихотей, и механичности, и любых постфрейдистских практик… Право же, сновидческая логика, сбивающая удобопонятный ход нарратива, — слишком расплывчатый критерий, чтобы класть его в основу какого-то конкретного «-изма». В конце концов, не любое ли сколько-нибудь настоящее кино по своей природе таково? Линч вот полагал, что любое.
© Rob Sheridan
Мало сведущий в теории кино и очень выборочно — в истории, Линч, кажется, мог бы изобрести кинематограф сам, в одиночку, с нуля, однажды утром; точнее — догадаться до него. Как ни странно, он — ознаменовавший своим гением рубеж веков и в четырех десятилетиях подряд сделавший ключевые для их понимания фильмы («Голова-ластик» в 70-х, «Синий бархат» в 80-х, «Дикие сердцем» в 90-х и «Внутренняя империя» в 2000-х), — он оказался едва ли не единственным в своем поколении, кто был накрепко укоренен в самой что ни на есть классической кинотрадиции. Экранная реальность есть изнаночный, темный двойник реальности «предэкранной», территория желаний и страхов, понятых как идеи; стилистика кинопространства есть отчужденная киноязыковой деформацией пластика внутреннего мира; эстетическая организация фильма есть игра не то ритуал, призванный выявить и сделать чувственно осязаемыми сокровенные смыслы бытия, — вся эта базовая метафизика киноискусства, отлаженная классиками в 1920–40-е годы, оказалась для Линча чем-то самоочевидным, не стоящим ни сомнений, ни доказательств, — и куда более актуальным и подлинным, нежели все современные ему тренды. И если Линч, которого его самобытность и бескомпромиссность, казалось бы, должны были обречь на культовый статус «высокоодаренного маргинала», умудрился оказаться и популярным, и любимым, то это еще и потому, что бóльшая часть его фильмов — чистое переложение на новый лад популярнейшей и любимейшей из всех классических кинотрадиций: нуара. «Синий бархат», «Твин Пикс», «Шоссе в никуда», «Малхолланд-драйв» не просто напичканы отсылками и оммажами из американской классики 40-х на радость простакам-постмодернистам; все они суть подлинный нео-нуар, понятый и сделанный всерьез, без ужимок и лощеной стильности «Основного инстинкта» или «Города грехов». Морок, двойничество и эротизм линчевских фильмов напрямую наследуют Уайлдеру и Лангу, Преминджеру и Хичкоку, Циннеману и Сьодмаку; и у лучшего из спецагентов Дэйла Купера нашлось бы о чем помолчать с Филом Марлоу.
В истории кино Дэвид Линч был, похоже, последним внутренним императором — режиссером, знавшим, что кино призвано не столько документировать уклад, сколько улавливать скрытую суть в искусно сплетенную сеть кадров. «Не смотри на дырку от бублика, смотри на бублик», — с радостью ухватились соцсети за самую пошлую из цитат, любимых Линчем (тут же приписав ее ему); что ж, на языке кино это означает, что кадрирование решает все, — что сеть, в которую фильм ловит смысл, составлена из рамок, на которые камера нарезает увиденный ею мир. А те, в свою очередь, зависят от точки, в которой находится автор со своей камерой, — от той, что именуется «авторской позицией». Именно с нее сквозь рябящую внешность мира проступает его дно и тайные придонные обитатели; именно с нее мерцание бликов по шершавой поверхности образует однажды связную, протяжную, рвущую сердце мелодию; именно с нее совы вдруг оказываются не тем, чем кажутся. И автор, нашедший себе и своему зрению место, и оставшийся ему верным, и заклинавший с него тьму, и огонь, и запахи, и все переливы всех тканей, лицевых и изнаночных, из которых соткан мир, — однажды слышит ответный призыв огня: «Дэвид Линч, иди со мной».
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Chris Weeks: Getty Images
Заглавная иллюстрация: © Chris Weeks: Getty Images
Читайте также: