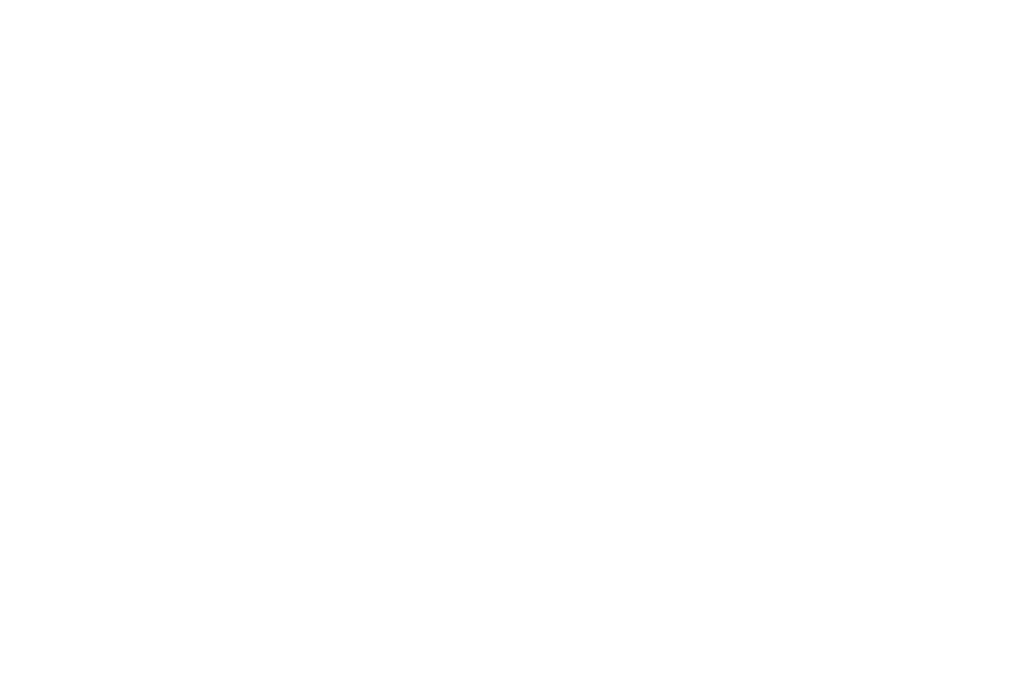| Великая магия Памяти Роберта Уилсона 3 августа 2025 |
Однажды легендарный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин пригласил Роберта Уилсона в фестивальное кафе, чтобы пообщаться с критиками и театральными деятелями. Дело было в 1998 году, во время гастролей «Персефоны», первого спектакля Уилсона, показанного в Москве. За длинным пышным столом гости напряженно ждали великого театрального магистра. Он пришел и сел, все молчали. Ситуация напоминала чеховский водевиль, но после первых его слов, медленно и значительно падавших камнями в воду, над столом возникла атмосфера таинственного ритуала. Уилсон рассказывал, как влюбился в аскетичный танец Марты Грэм, как был зачарован контрастом холодного лица и страстного голоса Марлен Дитрих. В его чуть дрожавшем голосе, в странном синкопированном жесте воплощалось все, о чем он рассказывал.
Таков парадокс его театра: холодный, он был полон страсти; формальный, он был воплощенной человечностью. Ничего общего не имеющий с исповедальностью, он полностью проявлял личность своего создателя. Кажущийся совершенным и гармоничным, он начался с болезни. Чтобы справиться с заиканием, возникшим из-за проблем со слухом, «простой техасский мальчик», как сам себя называл Роберт Уилсон, стал заниматься танцем, а заодно научился растягивать слова. Позже он научился растягивать и само время. В одном из интервью он рассказал, как случайно встретив сестру в Нью-Йорке, привел ее на свой спектакль, а по окончании спросил, узнала бы она своего брата в этом спектакле. «Конечно, Боб, — сказала она, — ведь там все так медленно происходит».
Удивительные образы, медленно плывущие в безмолвном пространстве, покорили Луи Арагона, увидевшего в 1971 году в Париже «немую оперу» Уилсона «Взгляд глухого». «Никакой другой спектакль не может сравниться с этим, так как это и есть в одно и то же время пробудившаяся жизнь и жизнь, видимая с закрытыми глазами, — реальность, смешанная со сном. Боб Уилсон не сюрреалист. Он тот, о котором мы, родившие сюрреализм, мечтали, чтобы он пришел после нас и пошел дальше нас».
Уилсона вдохновил на это творение глухой подросток Раймонд Эндрюс, спасенный им от дубинки полицейского в 1968 году в Нью-Джерси. Особый взгляд особых людей стал ключом к его картине мира, не похожей на реальность. Позже в опере «Эйнштейне на пляже» Филиппа Гласса (1976) он усовершенствовал форму минималистской церемонии. Замедленные повторяющиеся жесты на фоне святящегося небесного экрана завораживали, искушая множество эпигонов жаждой повторения. Но этот язык, несмотря на его высокую формализованность, был неповторим. Безупречные, холодные в своем совершенстве структуры Уилсона оказывались лишь оперением для свободного потока энергии, образующего сновидческие ландшафты его театральных медитаций.
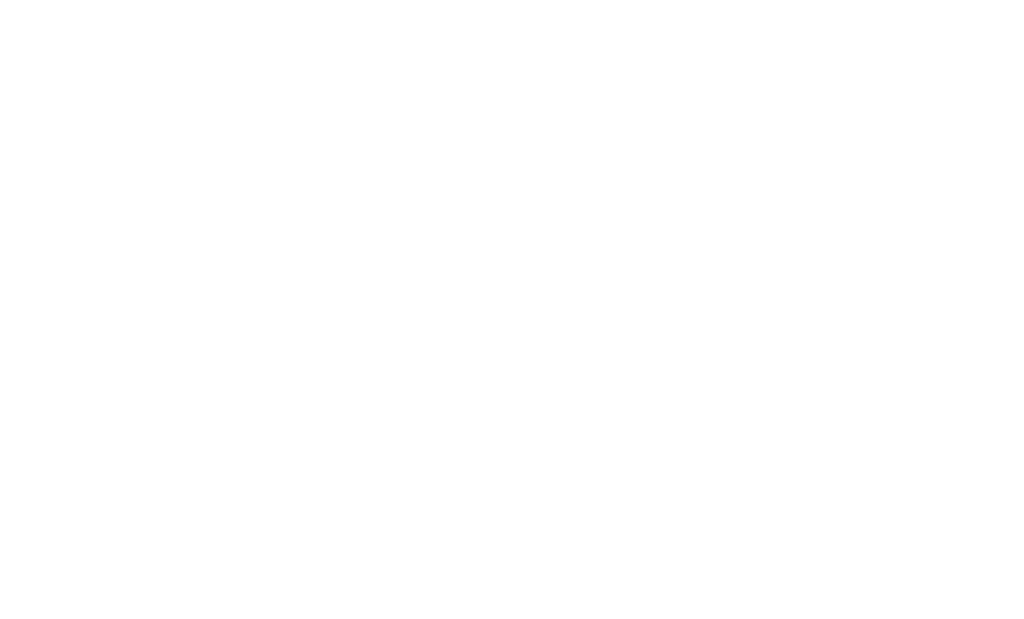
© Byrd Hoffman Foundation
Чем фантастичней были маски, которые он рисовал на лицах актеров, чем больше времени он тратил на постановку света для каждой их новой позы, тем ярче и вдохновеннее они проявляли себя. Неслучайно в разные годы с ним работали выдающиеся актеры и перформеры — Лори Андерсон и Марина Абрамович, Михаил Барышников и Изабель Юппер, Уиллем Дефо и Леди Гага. Выступивший вместе со Сьюзен Зонтаг и всем послевоенным поколением «против интерпретации», он искал возможность эмансипировать взгляд и ожидание зрителя, освободить его для собственных эмоциональных и интеллектуальных усилий.
Для Уилсона театр и стал магическим местом иного, трансцендентного опыта, где исчезают привычные связи знаков и смыслов. Главным средством на этом пути, а на самом деле — главной целью, стал свет. Фигуры и объекты обретали в светоносной среде качества эйдосов, первоформ, из которых заново творился мир. Через этот свет Уилсон касался чего-то таинственного, невидимого в себе и в нас. Тайны огромного мира тянули к себе этого техасского мальчика, и вместо того, чтобы стать путешественником, или ученым, он познавал их с помощью театра. Неслучайно в его, казалось бы, столь однообразной стилистике так много экзотического разнообразия. В далеком 1972 году в иранском Ширазе он сочинил семидневную игру «Гора Ка и Сторожевая терраса», гораздо позже поставил индонезийский эпос «Я — Ла Галиго» в сингапурской Бухте (2004) и даже поэзию Руми для Национального театра Греции (2007).
Он опоясывал мир сотнями километров факсов с чертежами и указаниями к спектаклям — от Осло до Афин, от Лиссабона до Москвы, от Нью-Йорка до Феррары, от Сан-Пауло до Парижа, от Лондона до Лос-Анжелеса, от Гамбурга до Праги.
Само его желание заниматься театром тоже имеет свои истоки в далеких от Техаса культурах — в них видны, прежде всего, русский и японский след. В 17 лет, посмотрев фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», он был покорен его радикальной условностью, а чуть позже осознал, насколько она близка эстетике средневекового японского театра Но с его медитативной церемониальностью, когда сильнейшее эмоциональное потрясение может вызвать едва заметный поворот головы.
Уже в нынешнем веке он ставил самых знаменитых национальных авторов, причем, в основном — на их собственной родине: «Трехгрошовую оперу» для «Берлинер Ансамбля», «Басни Лафонтена» для «Комеди Франсез», «Одиссею» для Афин и «Стулья» Ионеско для румынского Национального театра Крайовы. После таких амбициозных опусов, казалось, что работа над сказками Пушкина в Москве будет для Уилсона санаторием, и, кроме виртуозных картинок, он мало что сможет дать отечественной публике.
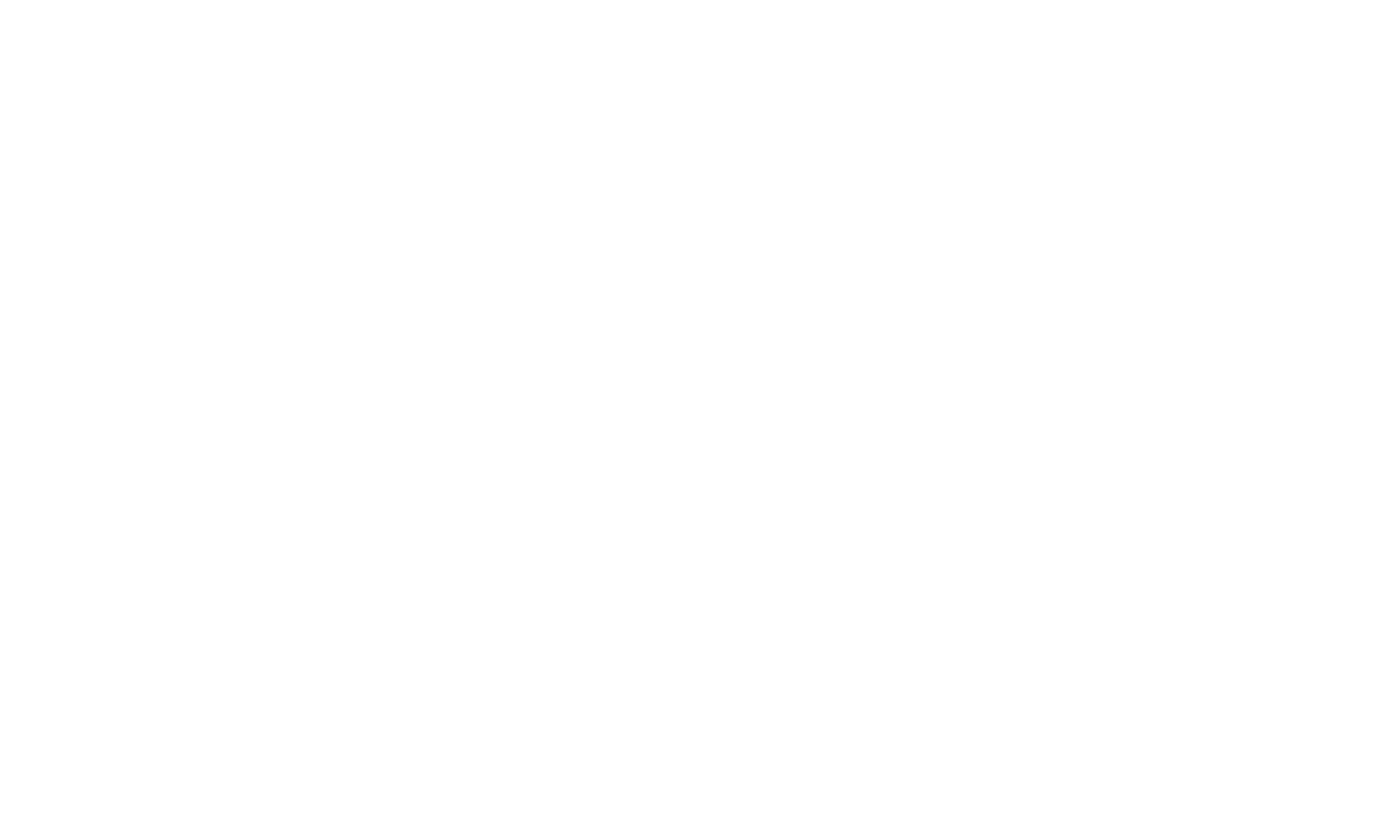
© Lucie Jansch
Но случилась диковинное. В своем спектакле «Сказки Пушкина», созданном для Театра Наций в 2015 году, Уилсон вернул нам важнейшую часть нас самих: поверх всех разговоров о национальных традициях он обратил наш взгляд туда, где Мейерхольд перекликается с Кабуки, русский лубок с советским агитпропом, конструктивизм с эстетикой английского нонсенса, а сам Пушкин — с русским футуризмом и Льюисом Кэрроллом.
На фоне сияющего экрана на ветке сидел Пушкин с рыжей копной волос из-под шляпы, этакий Веселый Шляпник из бертоновской «Алисы в Стране чудес». Глядя на то, как расчетливо-непринужденно Евгений Миронов качал ногой, как свободно, но подчиняясь строгому закону, плыли его интонации от одной акустической «тени» к другой — от старого советского радио к мхатовским спектаклям 50-х годов, от Смоктуновского до Бродского, — думалось: как, когда русские артисты смогли освободиться от тяготевшего над ними сентиментального психологизма и превратиться в виртуозов не хуже мастеров Кабуки с их культом формального совершенства?
Сказки парили — каждая сама по себе и все вместе, как волшебное зазеркалье наших снов, грехов и страхов, сотканные из теней и всевозможной чепухи. В пустом пространстве на фоне светящегося голубого экрана зависала маленькая лодочка с ладонь величиной, и этого хватало, чтобы погрузиться в «Сказку о рыбаке и рыбке» с ее морем неуемных желаний. Изысканный Рыбак (Александр Строев) медленно, как и положено в сновидческом, волшебном театре, двигался от одной кулисы к другой, мимо подсвеченной рампы, точно в старинном театре, и на каждый звон медных тарелок исчезал, предварительно наградив нас (или себя самого?) высунутым языком. А над этими видениями, включая агитпроповского попа в рыжей бороде из пакли, «глумился» рыжий Пушкин, в чьих глазах стояли слезы, а на устах блуждала загадочная улыбка исчезающего Чеширского кота. «Брожу ли вдоль улиц шумных…», — внезапно ламентировал он, болтая ножками на ветке.
Оказалось, что в праздничном и печальном спектакле самого знаменитого американского режиссера к нам возвращалось забытое искусство экономного и выразительного монтажа Эйзенштейна и Мейерхольда, позаимствованное ими в культуре Дальнего Востока и позже отправленное в долгое путешествие на Запад. А еще оказалось, что Уилсон — не прагматик, выверяющий каждый ход своих холодных композиций, а полный эмпатии и созерцательной глубины художник, умеющий различить в чужой личности, в чужой культуре особый взгляд на мир и создать вместе с ним новый, неповторимый язык.
Текст: Алена Карась
Заглавная иллюстрация: © Lesley Leslie-Spinks
Заглавная иллюстрация: © Lesley Leslie-Spinks
Читайте также: