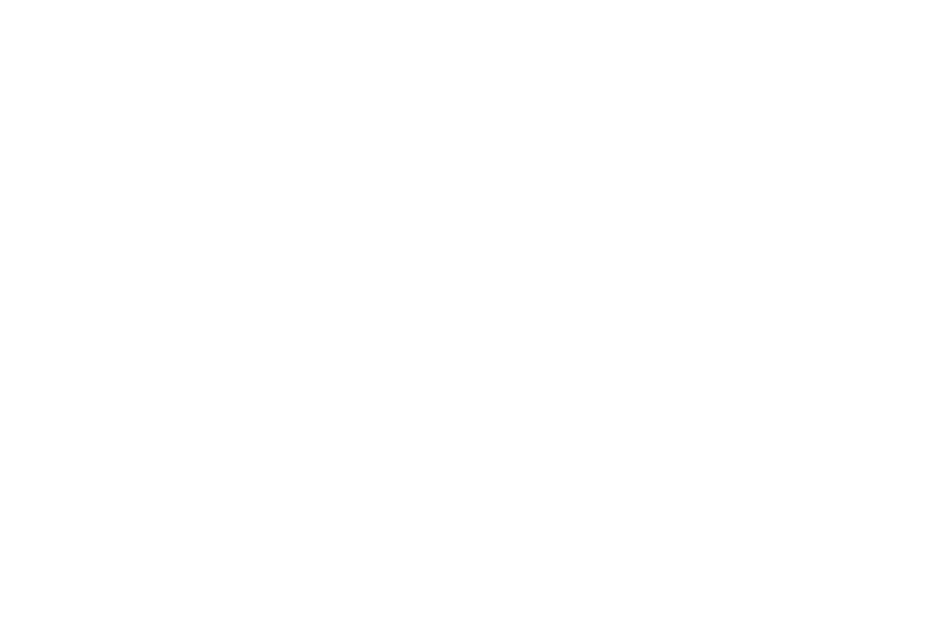| «Жизнь не равна вечности» Арт-группа «Провмыза» в беседе с Александрой Александровой 17 сентября 2025 |
Вышел из печати новый номер бумажной версии Masters Journal — на минувшей неделе он был впервые представлен на прошедшей в Москве 13-й международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Сегодня мы публикуем один из ключевых материалов выпуска — интервью с художниками года Cosmoscow–2025.
Галина Мызникова и Сергей Проворов сделали ставку на междисциплинарность задолго до того, как работа на стыке перформативных и визуальных практик стала общемировым трендом — именно поэтому основанная в 1998 году арт-группа «Провмыза» одинаково успешно представляла Россию в Венеции и на биеннале современного искусства, и на легендарной Mostra del Cinema, а ее проекты показывались и в парижском Центре Помпиду, и на Роттердамском кинофестивале. «Провмызе» всегда удавалось идти на опережение: в последние годы новая академическая музыка прочно прописалась на отечественной арт-сцене, но едва ли не первыми ее ввели в этот контекст именно Мызникова с Проворовым. Александра Александрова поговорила c классиками российского медиаискусстве об их художественном методе, о том, как «Провмыза» работает со временем — и как взаимодействует с проблематикой архива.
— С чего начинается работа над новым проектом «Провмызы»? Что становится первым импульсом?
— У Лакана есть такой термин — «скопическое влечение». Оно связано со способностью наблюдать и потом демонстрировать увиденное. Думаю, это относится ко всем художникам — и к нам в том числе. Взгляд здесь работает как своеобразный крючок: нужно уметь уловить детали повседневности и зацепиться за них. Иногда это что-то едва уловимое, а иногда, напротив, бросающееся в глаза. Все может иметь значение. Когда находишься в пространстве «на 360 градусов», важно быть в нем быстрым на повороты. Что именно откликнется — предсказать невозможно, но умение наблюдать, «цепляться» взглядом — принципиально важно.
Этому нас во многом научило раннее кино. Сегодня оно может казаться чем-то элементарным, не вызывающим удивления, но стоит всмотреться — и открывается богатейшая палитра образов и эмоций. Например, в раннем американском кино часто встречаются планы, где люди стоят и машут платочком. Это был определенный жест — знак прощания, иногда в черной одежде, с белым платком, достаточно формальный. Но если вглядеться, возникает мысль: а может, они прощаются именно с тобой? Ведь тех людей уже давно нет, и вот они, из своего времени, машут тебе навстречу. И в этом есть особая, глубокая эмпатия.
— Как вы мыслите работу со временем и его частной формой — с монтажом?
— Время мы, по большому счету, игнорируем. Наши ритмы всегда очень медленные. При съемках мы стараемся строить длинные планы с внутрикадровым движением. Но полностью удержать протяженность кадра невозможно — это утопия. Возможно, Сокурову это удалось в «Русском ковчеге», но у нас всегда происходит какой-то ошибочный сдвиг: камера, статист, режиссерская ошибка. Поэтому мы всегда выбираем максимально длинный план — чтобы движение от начала до конца происходило не спеша, чтобы не возникало ощущения монтажа, резкого скачка. Нам важно, чтобы все выглядело так, будто время в одном пространстве не прерывается. В наших работах оно часто становится тягучим, вязким — таким, в котором можно застрять и почти не выбраться. Иногда оно даже останавливается. У нас часто возникает, как мы это сами называем, гремучая смесь: с одной стороны — минимализм действий, минимализм жестов и смыслов, а с другой — «пожар визуальности», барочность, насыщенность цвета и формы. Такое соединение предельной простоты и одновременно избыточности нам очень интересно.
«Вечность». 2011 © Арт-группа «Провмыза»
Для нас важно, чтобы время продолжало жить в зрителе и после выхода за пределы видео. Этот эффект «задержки», «застревания времени» для нас принципиален. Главное, чтобы он совпадал с внутренним чувством темпоральности зрителя, с ритмом, который мы задаем.
— Есть ли в этом попытка уйти от исторического понимания времени, отменить его или остановить?
— Да, скорее остановить. При этом мы редко используем буквальное замедление, рапид, достигая этого эффекта монтажными и звуковыми приемами. Для нас важно создать особое течение времени — медленное, неторопливое, задумчивое, в котором возможно сопереживание происходящему. В спешке сопереживать трудно, а мы как бы растягиваем его во времени, от этого эмоции становятся более глубокими, более чувственными. Тогда все, что происходит в кадре, зритель невольно транспонирует на собственный эмоциональный опыт.
— Медитативность ваших работ может показаться близкой к сновидению. Насколько для вас в этом смысле важна тема памяти?
— Память не была предметом нашего прямого интереса, насколько я помню. Скорее, она возникала в связи с темой архивов, которая неожиданно всколыхнула в нас то, о чем мы давно забыли — особенно в девяностые годы, когда мы работали на Нижегородском телевидении. До начала девяностых это был известный кинокомплекс: там снимался, например, «Одинокий голос человека». Все необходимое оборудование для кинопроизводства было в наличии — монтажные столы, краны.
Когда мы туда пришли, начался болезненный переход на видеоформат. Все, что было связано с кинопроцессом, оказалось ненужным. Для нас это было шоком — огромные кучи заброшенной пленки, валявшиеся в углах. И именно это случайно вывело нас на работу с пленкой как с материалом. Она была киноархивная, но во многом испорченная — засвеченная, поврежденная.
Так, например, появилась работа «Гравюра». Мы взяли фрагменты пленки, где не было изображения как такового — лишь проявленный черный фон с движением, с царапинами, пылью, мельчайшими следами фотограммы. Мы прогнали все это через кинопроектор и перевели в видеоформат. Начали возникать неожиданные вспышки света: то внезапно мелькал засвеченный кадр, то проступала архивная фотография. Интересно, что изначально «мертвый» материал за счет этих изъянов становился живым, витальным. Он оживал в мерцании, в царапинах, в пятнах, а потом снова исчезал — это был своеобразный временной слой, наложенный поверх отсутствия изображения.
Мне вспоминается пример из кино: у Георга Пабста есть фильм «Дон Кихот» — когда-то его показывали на канале «Культура» в неотреставрированном виде. В одной из сцен Дон Кихот и Санчо Панса освобождают заключенных, а те, вместо благодарности, начинают бросать в них камни. В этом эпизоде царапины на пленке настолько совпадали с летящими камнями, что невозможно было понять, где изображение, а где дефект. Возникало удивительное наложение — времени фильма, изначальной пленки и ее сегодняшнего состояния. Такое соединение архива и «не-архива», прошлого и настоящего.
— То есть вас интересует архив как медиум, а не его содержание?
— Не совсем так. Когда мы работали на телевидении, мы заказывали фильмы сороковых–пятидесятых годов, в основном этнографические, и занимались их перемонтажом. То есть мы брали материал, демонтировали его и создавали новую работу. Тогда мы даже не знали, что фактически делаем то, что называется footage film. Это было начало девяностых, и нам казалось, что мы придумываем нечто новое, экспериментируем. Но в 1998 году, оказавшись в Австрийском музее кино, мы открыли для себя, что это направление уже существует, что есть Стэн Брэкидж, Лен Лай, Норман Макларен. Это было сильным потрясением — осознание, что мы не первые.
Мы занимались ненарративным монтажом. Любой этнографический фильм имел сюжет, но мы его полностью разрушали: замедляли до предела, рассматривали, как один кадр переходит в другой. Нас особенно интересовал сам «стык» двух кадров, их медленное перетекание: эмульсия смещалась, появлялись неожиданные эффекты, плюс царапины, пыль, движение частиц — все это становилось частью новой работы.
«Гравюра». 1994 © Арт-группа «Провмыза»
Сейчас же архив не является объектом нашего прямого интереса. Мы создаем работы заново, не опираясь на готовое. Нас скорее занимает сама идея архивации. Мы часто делаем перформансы — театральные или околотеатральные, — и нас спрашивают: «Как можно посмотреть эту работу?» Конечно, есть видеодокументация, но для нас важнее не запись, а останки перформанса — такой термин использует американская исследовательница Ребекка Шнайдер. Это то, что остается после действия: объекты, подвергшиеся перформативному воздействию, и свидетельства очевидцев.
Иногда именно эти «останки» становятся артефактами. Например, перформанс Анне Имхоф на Венецианской биеннале: музей современного искусства в Дрездене приобрел поцарапанное стекло, на котором он происходил — и этот материальный след оказался ценнее, чем видеозапись. То же самое можно сказать и о ритуальных перформансах Германа Нитча, когда ткани с отпечатками крови животных становились частью выставок и предметом коллекционирования.
— Материальные свидетельства для вас более важны, чем цифровое удвоение?
— Да. И неизвестно, что более объективно — документальная запись или материальный след.
— И тем не менее вы перестали работать с архивными материалами. С чем это связано?
— Сейчас архив для нас — вторичный материал. Мы воспринимаем его как часть постмодернистской философии: это всегда чужое, не твое. А нам сегодня хочется стопроцентного авторства — чтобы работа от начала до конца была своей. Цитаты возможны, но они остаются опосредованными и далекими.
— В недавнем проекте для галереи MYTH вы обращались к архивным матрицам старых работ «Провмызы». Как возникла эта идея?
— В основе фильма лежит ассоциативный сюжет, связанный с текстом Платонова «Река Потудань» — это история о человеке, который верил, что где-то в глубине реки есть другая, лучшая жизнь: он связал себе ноги и прыгнул в воду, чтобы не возвращаться в прежнюю реальность. На выставке в галерее MYTH также показывалась графика: мы отсканировали старые работы в очень высоком разрешении и напечатали их в крупном формате. Из маленькой графики размером 6×8 см получились полотна 150×80 см. Это своего рода масштабирование архива: графика очень старая, почти как гравюра, потрепанная временем — и вдруг она обрела новую витальность. Раньше она лежала «мертвым грузом» на дальней полке, забытая, а теперь вдруг ожила.
ORATORIUM SARXSOMA. 2020 © Арт-группа «Провмыза»
— Почему этот материал оказался актуальным именно сейчас?
— Чистая случайность. Мы бы никогда не вернулись к этому материалу, если бы не инициатива галеристов — мы просто про него забыли. Нам казалось, что это уже не наше, и это не мы. У нас есть свойство отчуждаться от завершенной работы: как только заканчиваем — дистанцируемся и смотрим на нее уже не как авторы, а как свидетели ее судьбы. Она становится почти чужой. И эта графика настолько отдалилась во времени, что мы о ней не помнили, а теперь произошло ее неожиданное «реанимирование».
— В ваших работах с found footage прочитывается идея вечного возвращения. Можно ли сказать, что для вас она является важной частью художественного метода?
— Возвращение для нас равнозначно воскрешению. Оно связано с опытом вечности. Вечность — это не смерть, а постоянное преодоление смерти. В наших видео создаются обстоятельства, ведущие к смерти, но в последний момент оказывается, что это всего лишь мгновение. Жизнь не равна вечности, а смерть оказывается вспышкой, точкой, которая сменяется новым жизненным витком. Это постоянное воскрешение. Здесь есть и мотив Сизифа, и мотив булгаковской Фриды, которой вечно подают платок. Обстоятельства, пожирающие жизнь, и существа, которым не полагается конца сталкиваются — и в этом столкновении рождается плач: сверхэмоционально окрашенная нечленораздельная архаичная формаречь, в итоге становящаяся смыслом.
Мы когда-то называли это принципом «бессмысленной ходьбы» — повторение, постоянное возвращение, действия, кажущиеся лишенными смысла, но обретающие его именно в повторяемости. Они наслаиваются друг на друга и становятся содержанием. Этот принцип нам очень близок.
— Архив во многом кажется способом бороться с исчезновением и временем. А как вы сами мыслите смерть?
— В начале девяностых, в период радикальных экспериментов, мы выпустили манифест «Реставратор — враг». Нам казалось, что, если что-то умирает, оно должно умереть — и мы не должны мешать этому процессу. Так что смерть действительно всегда была для нас важной темой, с которой так или иначе связаны все наши работы. Чувство потери, тоска порождают состояние, в котором человек может сопереживать максимально честно, без оглядки.
При этом мы не относимся к смерти как к свершившемуся факту. Для нас смерть — это скорее процесс, онтология, процессуальность. Например, в «Капели» — работе, снимавшейся в момент ухода нашего близкого друга: там в постели лежит девушка, которая медленно уходит из жизни. Но смерть так и не приходит — мы имеем дело с преобразованием. Появляется вода, которая наполняет постель, превращается в капель и начинает, капля за каплей, падать на пол. «Капель» — это история перехода, постоянного изменения состояния, своего рода воскрешения.
Или, например, в Oratorium SARXSOMA — одной из последних наших работ, посвященной утратам и времени переживания смерти, которое мы болезненно растягиваем. Для этого была выстроена гора около шести метров высотой и двадцати пяти метров длиной. Она — как переправа. По ней на механизмах движутся тела и предметы: то поднимаются вверх, то опускаются вниз. Когда они опускаются и замирают в горизонтальном положении — это смерть. Но в какой-то момент они снова начинают подниматься вверх. И это уже момент воскрешения, очень важного для нас состояния «не смерти», «почти смерти», «почти жизни».
Наши работы не рождаются регулярно, мы не снимаем каждый год. Они возникают редко, с определенной периодичностью, и всякий раз мы возвращаемся к теме смерти, потому что каждый раз приходят новые боли. Мы договариваемся между собой и переносим эти боли на зрителя — точнее, приглашаем зрителю сопережить вместе с нами.
Заглавная иллюстрация: «Капель». 2009 © Арт-группа «Провмыза»
Читайте также: