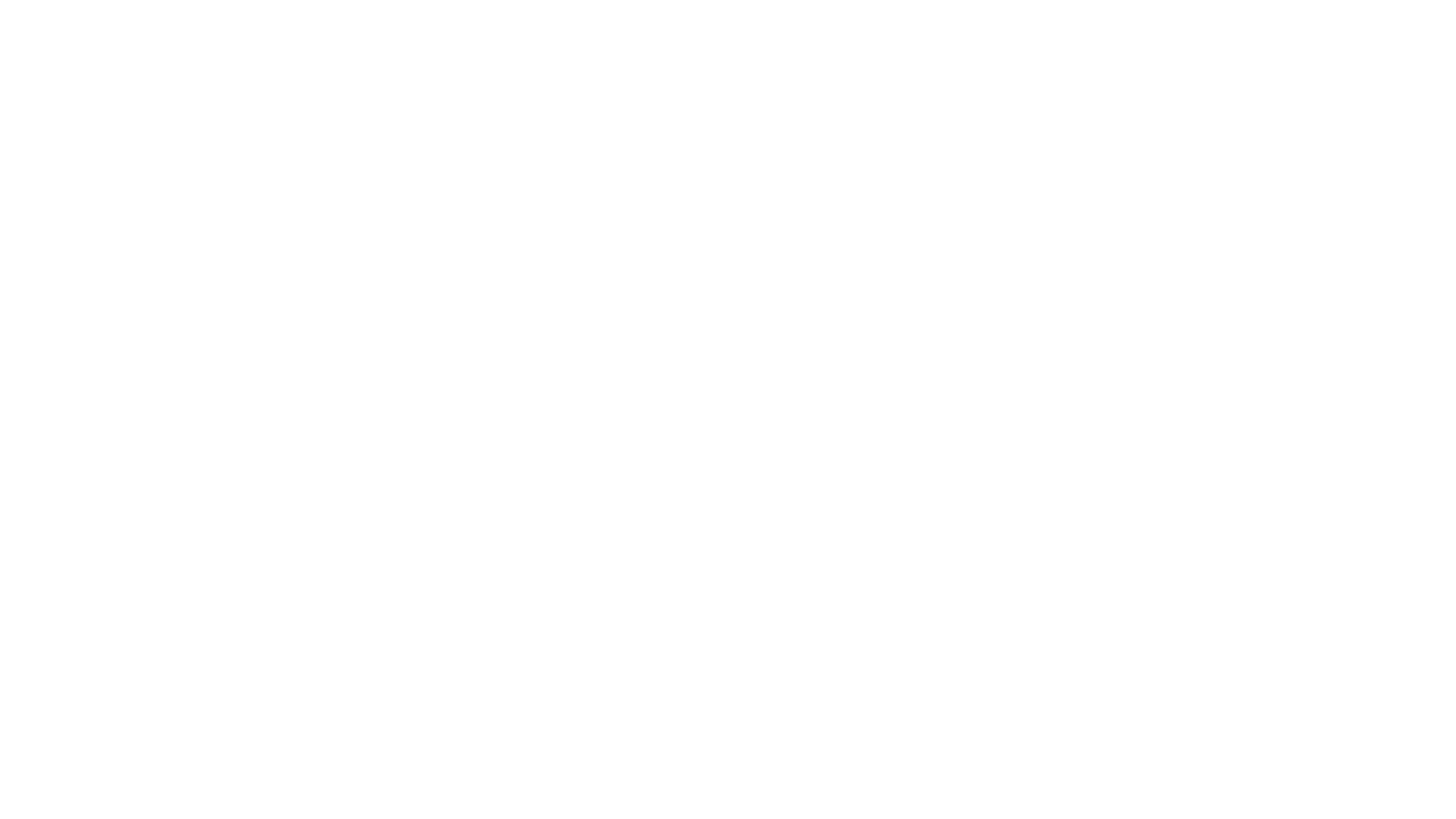| Пустельга для отроков Лилия Шитенбург о «Птице» Андреи Арнольд 26 декабря 2024 |
Любой фильм британского режиссера Андреи Арнольд воспринимается и еще долго будет восприниматься как событие. Ее «Грозовой перевал» 2011 года, получивший приз за операторскую работу на Венецианском кинофестивале, оказался не просто лучшей экранизацией романа Эмили Бронте, но заодно рассказал, что такое идеальная экранизация в принципе, как можно работать с современными социальными трендами (вроде расового разнообразия) на классическом материале, а главное — как совместить взгляд камеры со взглядом главного персонажа, наделив оба первозданной природной дикостью. Которая проявляется не в неограниченной агрессии, а в умении ежесекундно видеть мир словно впервые, удивляясь его ослепительным и жестоким чудесам. С юными героями Арнольд (а она любит и умеет снимать подростков) и кино словно помолодело. Как будто камера не похитила очарование у пейзажа, а вернула ему сторицей, сделав вересковые пустоши нетронутыми и прекрасными, как в первый день творения. «Красная дорога» Арнольд получила приз жюри в Каннах, короткометражная «Оса» выиграла «Оскар», но «Грозовой перевал» был почти откровением. С тех пор все пошло совсем не так. «Американский мед» (2016) выглядел повтором собственных приемов, но на заокеанском материале, второй сезон сериала «Большая маленькая ложь», который она снимала, вышел ощутимо хуже первого, а документальная «Корова» (2021), закономерно впечатлившая зрителей (преимущественно веганов), до пьедестала, на котором пребывают в мировом кинематографе Осел и Лошадь, так и не добралась. И вот настал черед «Птицы».
Место действия Андреа Арнольд знает не понаслышке: снимали преимущественно в английском Дартфорде, в Кенте — режиссер и сама оттуда, здесь, в муниципальных домах для бедняков, среди пустырей и заброшек, прошло ее детство, здесь же снимали оскароносную «Осу» — во многом на автобиографическом материале. Двенадцатилетняя Бэйли (Никия Адамс), симпатичная мулатка, живет с отцом и братом в обветшалом, больше похожем на притон, изукрашенном граффити жилище. Отец — это слишком сильно сказано. Бага играет необычайно модный сегодня Барри Кеоган, объявленный звездой этого фильма и тоже выросший в своей Ирландии в весьма жестких условиях. Похож Баг разве что на старшего брата девочки, да и эту степень родства зрителю нужно будет установить, постепенно убеждаясь, что этот беззаботный улыбчивый хулиган, покрытый татуировками (главная из которых — гигантская стрекоза) — не шестерка в какой-нибудь местной банде, а благородный отец семейства, собирающийся к тому же повторно вступить в брак со своей не менее придурочно-веселой избранницей.
Баг и его нищее неунывающее окружение, живущее, по всей вероятности, на пособия, — это, видимо, и есть те «герои рабочего класса», благодаря которым некоторые критики назвали фильм «типичным произведением британского социального реализма». Однако это не так. Ничего запоздало «рассерженного» фильмы Арнольд не содержат, хотя в самом деле, ее симпатия к жизнелюбивым маргиналам несомненна. Но сам Баг, а также родственники и знакомые Бага, — люмпены. И к рабочему классу их не отнесла бы не только Маргарет Тэтчер, но, пожалуй, что и Майк Ли. Собственно, единственная предпринимательская идея посетила Бага в связи со скоропостижной свадьбой, на которую нужно заработать денег: в дом притащена крупная жаба, которую герой намерен каким-то образом доить, чтобы продать драгоценную слизь за бешеные деньги. Все обитатели сквота сползаются, чтобы решить, при каких условиях жаба даст больше слизи — когда она в хорошем настроении или же в дурном? Для введения жабы в стресс воодушевленный хор громко исполняет рок-хиты. Арнольд убеждает: в звучании этого разномастного хора есть гармония, а в свободе здешних нравов — своеобразная милосердная красота. С этим нет нужды спорить. Равно как и с тем, что современная левая идея целиком взращена на баснословно переоцененной жабьей слизи.
© © MUBI/Atsushi Nishijima
Бэйли не несчастна, но очень одинока. Заснувшее на пустыре дитя разбужено необъяснимыми резкими порывами ветра, которые приносят к девочке странного обтрепанного молодого человека в килте, больше смахивающем на старомодную юбку в складочку. Незнакомец с диковатыми глазами и заячьей губой забавен, безвреден, порывист и склонен к непредсказуемым балетным пируэтам, впрочем, оборванным на полужесте. Птица — так он себя называет. Птицу играет немецкий танцовщик Франц Роговски, и его отрешенная задумчивая кротость убеждает в том, что нелепый субъект, пожалуй, не шутит. Птица прилетел в родные края, чтобы найти родителей. Он одинок так, как Бэйли и не снилось. Гнездо его давно опустело, следов близких не найти — и когда бы Бэйли ни посмотрела в окно, теперь она видит Птицу, неподвижно стоящего на крыше соседнего дома. Когда она обнаружит своего друга, натурально заросшим перьями, то не удивится. А когда отважная Птица набросится на жестокого и гадкого сожителя девочкиной матери, чтобы защитить детей, сверкнет на обидчика сменившими цвет желтыми птичьими глазами и унесет его в своих когтях далеко-далеко, — зрители поймут, как выглядит главная мечта детей трущоб и их герой-освободитель.
«Птица» Арнольд немного отбилась от стаи. В начале всех кинематографических птиц, сопровождающих неприкаянных детей английской бедноты в их стремлении к свободе, был знаменитый «Кес» Кена Лоуча (1969), снятый по роману Барри Хайнса «Пустельга для отрока». Образчик британского социального кино, в котором не было ничего фантастического. Только мальчик и его сокол (которому в финале свернул шею как раз до озверения «рассерженный» пролетарий). «Кес» — фильм, который множество современных деятелей британского кино называют определяющим в своей биографии, навсегда связал образ дикой птицы с силой юношеского духа, восставшего против убожества взрослого мира. Потом была «Птаха» Алана Паркера (тоже, кстати, англичанина): Мэтью Модайн играл там чудесного юношу, изувеченного психической травмой вьетнамской войны, вообразившего себя птицей и влюбленного в желтенькую канарейку. Сравнительно недавно появилась еще одна, не сопоставимая по режиссуре, но все же любопытная история о человеке с птичьими крыльями, выручающем детей из беды, — Тим Рот сыграл пернатого бомжа в «Скеллиге». Его герой спал в заброшенном сарае, питался вкусными объедками из помойки, страдал от колтунов в грязных перьях и умел закатывать глаза, покрывая их пленкой на совиный манер. Потом, благодаря детишкам, поверил в людей и в себя, и обернулся ангелом. Плох тот английский отрок, у которого не было воображаемого или натурального крылатого друга.
© MUBI/Atsushi Nishijima
Не открыв в сюжете про подростка и птицу ничего особенно нового и ограничившись чистой сентиментальностью, Андреа Арнольд осталась верна себе. Ни больше, ни меньше. Как только она пытается преодолеть привычные рамки и воспарить вслед за птицей, фильм становится похож на проходную сказку с ограниченным бюджетом. Но когда режиссер отдается своей стихии, позволяя дрожащей ручной камере Робби Райана (снимавшего все фильмы Арнольд) задержаться на мгновение, разглядывая бабочку на оконном стекле или морские волны, в которые погружается героиня, или полевые цветы, или нежный профиль темнокожей девочки (то, как Арнольд работает с фактурой чернокожих актеров, не работает никто!), да даже если камера просто пялится в зеленую траву — с вересковых пустошей снова тянет ветром «Грозового перевала», и авторский стиль обретает завораживающую неповторимость. И все птицы, дойные жабы, бабочки, стрекозы с татуировки, капли воды и порывы ветра соединяются, чтобы получилось настоящее кино.
Текст: Лилия Шитенбург
Заглавная иллюстрация: © MUBI/Atsushi Nishijima
Заглавная иллюстрация: © MUBI/Atsushi Nishijima
Читайте также: