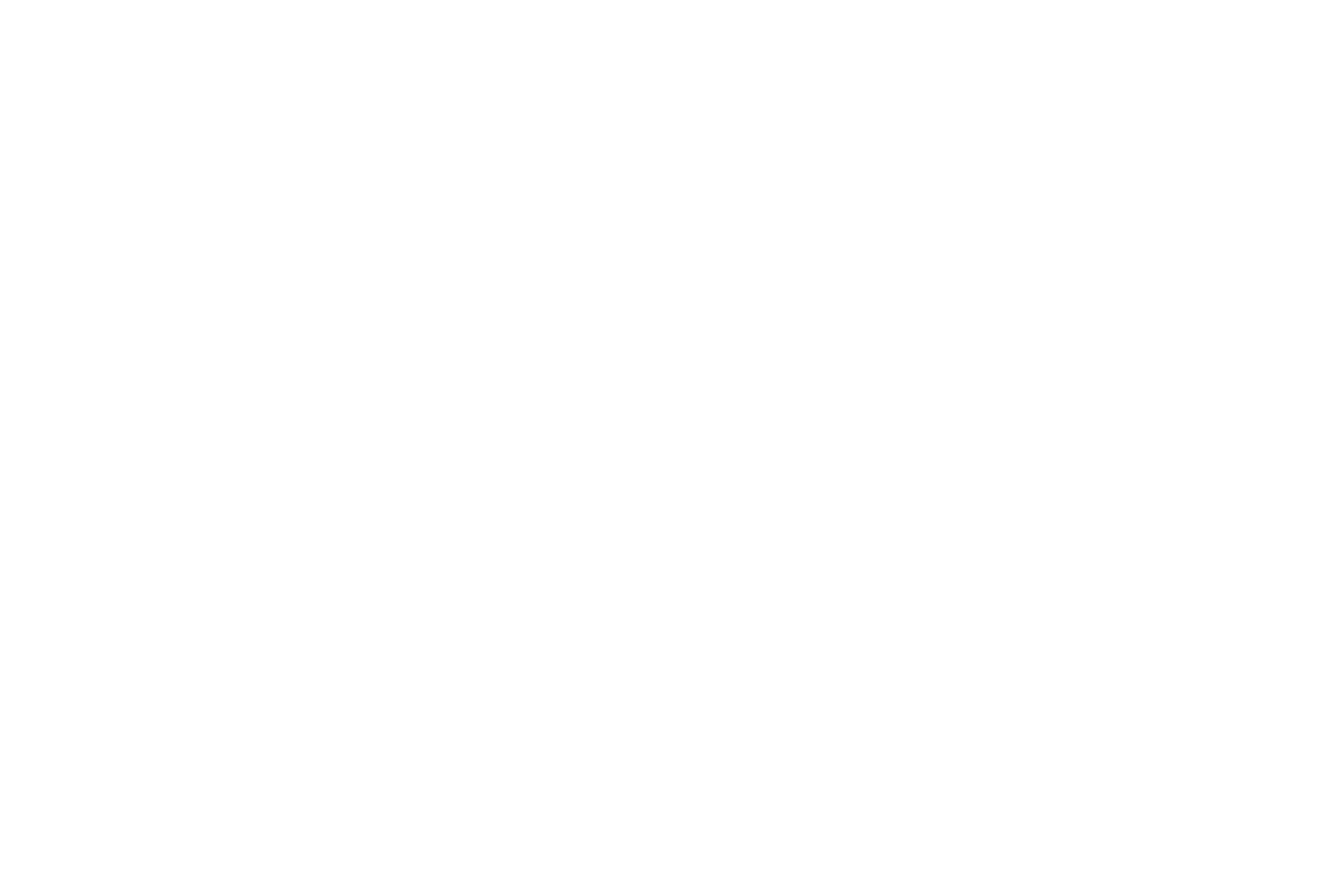| Игра в кубики В центре «Зотов» зовут в «Путь к авангарду…» 14 октября 2025 |
На выставке в мастерской Леонида Сокова в Большом Сухаревском переулке, в доме 7, где он и его друзья Игорь Шелковский, Иван Чуйков, Сергей Шаблавин, Римма и Валерий Герловины, Александр Юликов показывали свои работы, у каждого художника была собственная стенка. Стену с работами Риммы и Валерия Герловиных, в том числе и «кубо-поэмами» Герловиной, украшала надпись «Заглядывайте в кубики, иначе ничего не поймете!»
Фотографии той майской выставки 1976 года, как и серию Риммы Герловиной «Игра в кубики», в которой детская игра встречалась с «Черным квадратом» Малевича, а старый добрый кубизм — с футуристической книгой художника, можно увидеть на выставке в центре «Зотов». И тот давний совет Риммы и Валерия Герловиных «заглядывать в кубики» здесь по-прежнему актуален.
Ж — журнал
Выставка «Путь к авангарду. Диалоги художников в журнале "А-Я"», которую центр «Зотов» сделал вместе c Музеем AZ — это выставка-открытие. Она открывает для публики историю журнала «А-Я», который как раз вырос из той майской выставки 1976 года в мастерской Сокова, продлившейся всего десять дней. Номеров журналов «А-Я» вышло восемь. И выходили они с огромными перерывами — в течение восьми лет, с 1979 по 1986 год, в Париже и Нью-Йорке. Поиск денег на печать, как и подготовка публикаций, требовали сил и времени.
На самом деле чудом было то, что номера вообще выходили. Сама идея журнала о «неофициальном» искусстве в СССР, который бы издавался в Париже, в середине 1970-х выглядела отчаянно дерзкой. Одно дело — официальные выставки мэтров соцреализма, другое — рвануть из «квартирников» и выставок в мастерских даже не в залы советских музеев, а, минуя их, на международную арт-сцену. В послевоенной Европе знали русский авангард, хотя до выставки 1979 года в Центре Помпиду «Париж — Москва» о нем больше читали и слышали, чем видели работы. А про художников, представлявших свои работы за «контуром» Союза художников СССР, и слышали немного. Если вообще слышали… Первый номер два редактора — Александр Сидоров в Москве и Игорь Шелковский в Париже — готовили два года. И в год столетия Малевича он появился с публикацией неизданной статьи 1922 года «О субъективном и объективном в искусстве». Это была сильная заявка. Прежде всего на то, что «неофициальные» художники из СССР ощущают себя наследниками авангардистов. Как минимум, ведут диалог с ними. С другой стороны, среди основных задач журнала, которые сформулировал тогда Шелковский, была и такая: «…Сохранить, довести до сведения читателя поиски и находки неофициальной культуры. […] Не дать прерваться цепи художественной и культурной преемственности».
© Даниил Анненков
А — архив
Неудивительно, что рубрика «Наследие» в журнале становится постоянной. И планка, заданная публикацией неизданной работы Малевича уже в первом номере, упрямо выдерживалась в следующих выпусках. В «А-Я» была впервые напечатана автобиография Павла Филонова (вкупе с репродукциями его работ из коллекции Георгия Костаки)… Здесь опубликовали переписку Михаила Ларионова, основателя «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста», и рано погибшего Василия Чекрыгина, увлеченного идеями Николая Федорова… Здесь печатаются фрагменты дневников Михаила Матюшина 1915–1916 года, архивные фотографии Елены Гуро… А в восьмом, литературном номере, ставшим последним, можно найти публикацию рукописи Варлама Шаламова «Осколки двадцатых годов»… Публикации русских, американских, французских исследователей авангарда были равно востребованы на страницах «А-Я».
Ставка на открытие, поиск неизвестных архивных текстов, рукописей мастеров русского авангарда, их публикация, равно как и диалог с ними современных художников, была принципиальна. Журнал таким образом включал «неофициальных» художников в контекст истории русского и мирового искусства. И говорил о современном искусстве на русском языке на равных с читателями в Париже, Нью-Йорке, Иерусалиме…
На нынешней выставке в центре «Зотов» (кураторы Анна Замрий, Ирина Горлова, Арина Хомченко, Гаянэ Арутюнян) в фокусе внимания оказывается именно раздел «Наследие» и диалог молодых художников в 1960-х–1980-х годах со своими предшественниками начала ХХ века.
Восемь частей экспозиции (по числу номеров «А-Я») предстают в пространстве высокого «цилиндра» здания бывшего хлебозавода как раскрывающиеся страницы журнала. Архитекторы Александр Бродский и Наташа Кузьмина превращают окружность в символ тесного круга единомышленников. Во внешнем «кольце» экспозиция погружает в историю журнала, которая чем дальше, тем драматичней. И плюс этой выставки в том, что драмы, задокументированные в письмах, что, как правило, с оказией курсировали между Москвой и Парижей, едва ли не впервые предстают во всей остроте и беспощадности. При этом жанр этой истории независимого арт-медиа мерцает. Переписка в духе старинного эпистолярного романа дрейфует в сторону жесткой современной драмы Театра.Doc. Расстояние между Парижем и Москвой не способствовало ее смягчению, напротив, — обостряло конфликты, подозрения, опасения, разногласия между художниками и редакторами.
К — Казимир
А внутри «кольца» — драмы интеллектуальных поисков. Диалог художников с Малевичем становится одной из точек опор для «езды в неведомое».
Эдуард Штейнберг, увидев впервые показанный «Черный квадрат» на выставке «Москва — Париж», пишет «Письмо к К.С.» Группа «Страсти по Казимиру» устраивает в мае 1982 года в Нью-Йорке в галерее PS1 перформанс «Последние похороны Казимира Малевича», документируя свои перемещения с параллелепипедом с черным квадратом на торце. Франциско Инфанте и Нина Горюнова делают серию «Супрематические игры», выкладывая яркие геометрические фигуры на белом снегу. Огромный зеркальный треугольник, главный герой работ Инфанте и Горюновой «Жизнь треугольника», на выставке в «Зотове» парит над рисунками конструктивистов 1920-х… Борис Гройс публикует статью «Московские художники о Малевиче», где о великом Казимире пишут Эрик Булатов, Олег Васильев, Илья Кабаков, Игорь Голомшток…
© Даниил Анненков
При том, что Малевич лишь один из постоянных адресатов художников и авторов журнала «А-Я» (среди других визави — Филонов, Семенов-Амурский, Ларионов и Чекрыгин, Матюшин, Розанова, Крученых…), развитие диалога с ним весьма показательно. Штейнберг, к примеру, воспринимал Малевича как духовного учителя: «Для меня Ваш язык стал способом существования в ночи, названной Вами «Черный квадрат». Думается, что человеческая память будет всегда к нему возвращаться в моменты мистического переживания трагедии Богооставленности».
Пройдет несколько лет, и знаменитый текст, где будут строки о будущем, в которое возьмут не всех, Илья Кабаков начнет словами: «Не знаешь даже, что сказать о Малевиче. Великий художник. Вселяет ужас. Большой начальник». Между духовным учителем, который формирует почти религиозное отношение к искусству, и «большим начальником», который «вселяет ужас», — дистанция огромного размера.
Причина, конечно, не только в личных приоритетах художников. Просто в утопии русского авангарда, отводящей искусству ключевую роль в переустройстве мира, спустя полвека стали проступать до боли знакомые черты тоталитарной дистопии. И новое поколение художников не могло этого не чувствовать. Блестящий исследователь русского авангарда Екатерина Бобринская однажды написала об имперских бюстах Бориса Орлова, что художник «превращает авангардистскую утопию в «архаический» миф». Трансформация проекта прекрасного будущего в архаику мифа на глазах пары-тройки поколений стала поводом если не для «последних похорон Казимира Малевича», то для возникновения иронической дистанции от него в работах художников «московского романтического концептуализма» — как, например, в альбоме Ильи Кабакова «Полетевший Комаров».
С — случай
Выяснение отношений художников «неофициального» искусства с «отцами» русского авангарда было тем актуальнее, что в 1960–1980-х был шанс встретиться лично и с Алексеем Крученых, и с сестрой Филонова Евдокией Глебовой, и с Давидом Бурлюком… На выставке (кроме прекрасного аудиогида, который записала Екатерина Лазарева) есть «подкасты», которые можно послушать в наушниках. Колоритные истории из уст самих художников — больше, чем рассказ. Это, в сущности, приглашение присоединиться к такому разговору о людях, искусстве, времени, который Пушкин объединял под рубрикой table talk. Здесь легко почувствовать себя слушателем застольной беседы, привольной и непредсказуемой, украшенной острым словцом иль анекдотом дней минувших…
Но ключевыми в этих встречах были, конечно, не анекдоты, а влияние личности «отцов», их отношения к искусству. Насколько мощным могло быть это влияние, можно увидеть в разделе «Случайная встреча» — о дружбе Федора Семенова-Амурского, одного из первых выпускников ВХУТЕМАСа, и Игоря Шелковского. Та встреча в 1954 году 17-летнего ученика художественного училища и немолодого художника, и правда, была случайной — в Пушкинском музее, у натюрморта Матисса, впервые выставленного здесь. С другой стороны, что может быть естественнее, чем встреча двух художников в музее? Так началась дружба длиной в жизнь.
© Даниил Анненков
Федор Васильевич учился во ВХУТЕМАСе у Митурича, Купреянова, Фаворского. Он и его жена Елизавета Измайловна Елисеева, тоже вхутемасовка, жили в десятиметровой комнате, зарабатывая ретушью фотографий для издательств. Как они говорили, работали «10 дней на кормушку, 20 дней для себя». Они прожили душа в душу вместе 50 лет, 6 месяцев и 7 дней. Федор Васильевич умер летом 1980 года. После его смерти Шелковский сделал выставку работ Семенова-Амурского в Париже. Денег на рамы не было, и Шелковский сделал рамы сам — конструктивистские и нарядные, эффектно подчеркивающие красоту работ Семенова-Амурского. Сейчас на выставке можно видеть живопись Семенова-Амурского, вписанную в рельефы-рамы Шелковского. Тот случай, когда «два в одном» (произведения, конечно) не метафора, а констатация факта.
О — открытка
Выставка «Путь к авангарду. Диалоги художников в журнале "А-Я"» тоже предлагает «двойной портрет» — двух поколений блистательных художников отечественного искусства. Она богата архивными драгоценностями, музейными раритетами и нежданными находками, будь то кусок знаменитой желтой кофты Маяковского или запись голоса Варлама Шаламова, читающего свой рассказ «Воскрешение лиственницы»… Но обойдемся без спойлеров. Заглядывайте в кубики, не забудьте аудиогид и прикиньте, кому вы хотите отправить открытку с выставки. Медиаторы выставки в «Зотове» и «Почта России» вам в помощь!
Текст: Жанна Васильева
Заглавная иллюстрация: © Даниил Анненков
Заглавная иллюстрация: © Даниил Анненков
Читайте также: