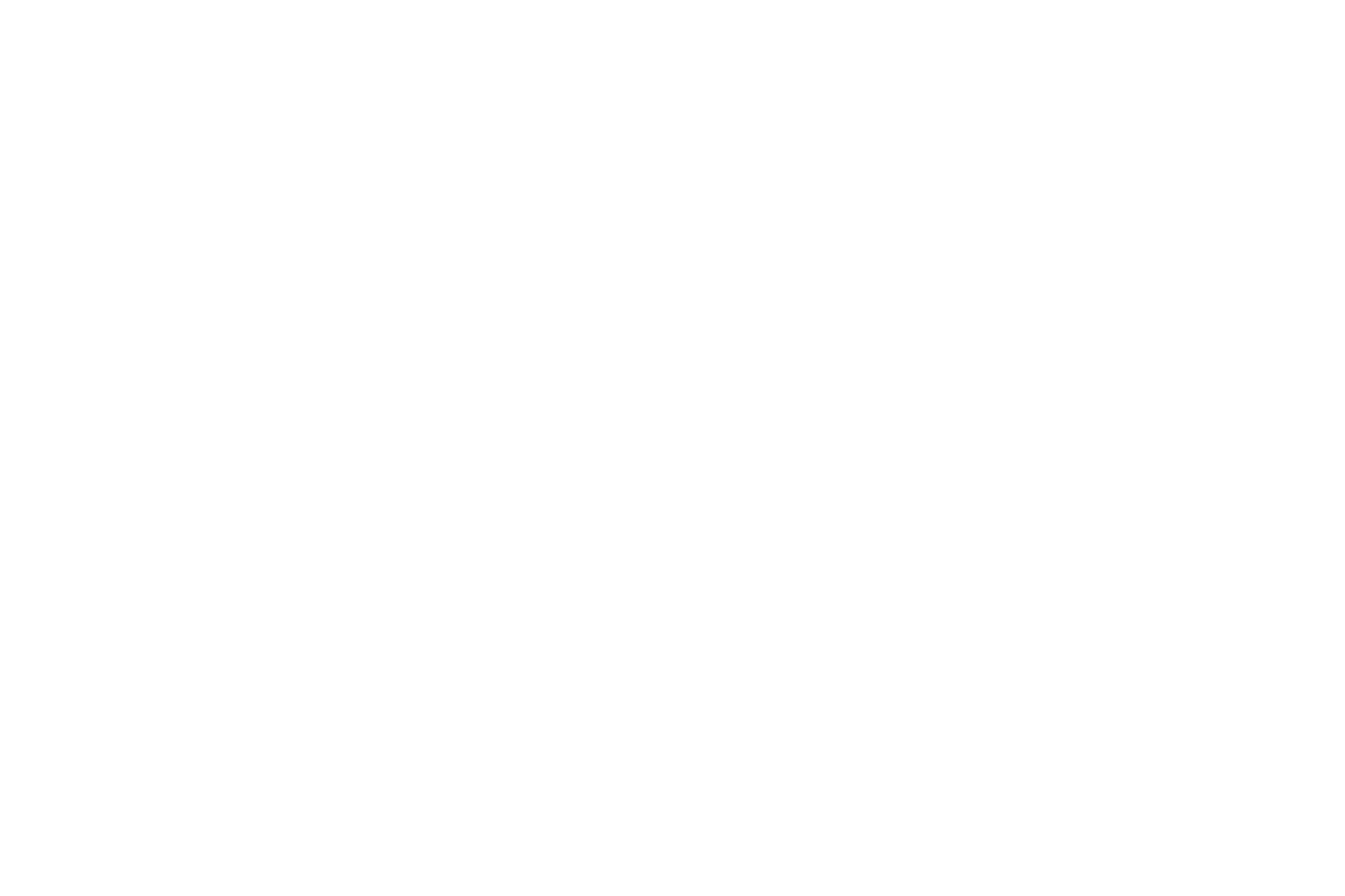| Шаровары гения «Репин. Детали» в Музее Академии художеств 25 февраля 2025 |
Академия художеств — хорошее место для шалостей и проделок великих. В недавнем кинохите «Пророк» именно Академия сыграла роль Царскосельского лицея: юный Саша Пушкин, забравшись на парту в кабинете искусств, где автор сих строк когда-то сдавал экзамены, зачитывает протестный рэп. Пока самая известная онлайн-платформа для изучения языков эпатирует, расследуя убийство зеленой совы, Музей Академии художеств ушел куда далече — его маскотом уже несколько лет является привидение Александра Кокоринова, архитектора и одного из первых ректоров «колыбели русского искусства», по легенде, повесившегося на чердаке своего детища и пугающего с тех пор его воспитанников. На открытии выставки «Репин. Детали» также не обошлось без локальных мемов: фуршетные столики были украшены репами разных сортов. Репа — это и прозвище самого Ильи Репина, и неофициальное название Академии художеств его имени (имеется в виду учебное заведение, с которым Музей Академии делит одно здание и находится в неразрешимо созависимых отношениях), и наконец корнеплод, популярный на кухне в «Пенатах» и напоминающий о провозглашенной Натальей Нордман, спутницей художника, веганской диете, особенно прославившейся супами из сена и, конечно, куропаткой из репы.
Кураторы выставки признаются, что «обронили Репина в быт» не просто так и не из просветительского озорства, с которым нынче пересматриваются и очеловечиваются «наши все» и прочие герои хрестоматий. Ядром экспозиции стали предметы Музея-усадьбы Репина «Пенаты» — в конце прошлого года он закрылся на реставрацию, которая предположительно продлится до лета 2026 года, и часть экспонатов пока передана на хранение в Музей Академии художеств. Работы, представленные на выставке, театральный реквизит, исторические объекты и повседневные вещи, принадлежавшие семье Репина, также ожидает научная реставрация (как и живопись, домашняя утварь требует тщательного изучения и не должна превратиться в «новодел») или переатрибуция (в случае с предметами она осложняется их малой изученностью). Уже сейчас очевидно, что информация о некоторых произведениях неверна. Так, например, на одном из портретов Нордман подпись Репина, сообщающая, что выполнен он в 1905 году в Фазано, была нанесена художником по памяти, по просьбе дочери, гораздо позже и, вероятно, содержит ошибку. Кураторы уверены: портрет был написан не в Италии, а в Куоккале. Установить это несоответствие помогло именно внимание к деталям — архитектурные особенности веранды «Пенатов», на которой со всей очевидностью и позировала Нордман, и изображенная тут же ваза работы Михаила Врубеля, хранившаяся в доме Репиных. Сейчас этот предмет выставлен рядом с портретом.
Илья Репин. Портрет Н. Б. Нордман-Северовой. 1909
Дьявол в деталях — и выставка «Репин. Детали» именно об этом. Экспозиция выстраивает нарратив через артефакты материальной культуры, экспериментируя с концепциями микроистории, истории вещей и истории повседневности, с поправками на то, что, во-первых, главный герой этих историй все-таки чрезвычайно известен, во-вторых, был по-настоящему внимателен к материальному миру и предан ему самозабвенно. Выставка не только изобилует предметами, встречающимися в работах (или помогавшими их создавать: есть тут кисти с метровыми черенками и настольные скульптурные этюды, слепленные наскоро фигурки запорожцев), но и содержит более или менее подробные пояснения: откуда они происходят, как вообще использовались жупаны, резные подголовники и баклаги, и какую роль играли в жизни и творчестве Репина. Тексты писем и воспоминаний дополняют эту «археологию быта», хотя чаще носят комплиментарный характер. Исключением, пожалуй, можно назвать характеристику писательницы Татьяны Щепкиной-Куперник, тоже предельно детализированную: «Был он небольшой, сухонький, весь «пружинистый». Некрасив: длинные волосы, растрепанный, бородка мочалкой. Глаза маленькие, глубоко сидящие, но зорко-внимательные — это, пожалуй, больше всего в его наружности напоминало художника. Одевался он демократически, с небрежно повязанным галстуком».
При всем желании в год 180-летия Репина организаторы выставки не могли сделать монографический проект — хотя эта амбиция угадывается и местами играет с «Репиным. Деталями» недобрую шутку. Выставка в Музее Академии художеств — это своего рода «Пенаты» в развертке и с потенциалом пересборки. Очевидно, что в парадных залах Академии невозможно (да и не нужно) было воссоздавать в точности локации усадьбы. Временная экспозиция работает скорее как лаборатория, позволяющая тестировать форматы, которые возможно затем лягут в основу обновленных «Пенатов». Как известно, реконструкция музеев такого типа — задача заведомо непростая: нужно сохранить аутентичность, но при этом заставить часто онемелую, застывшую в своем времени экспозицию говорить со зрителем на одном языке. Каких-то десять лет назад в «Пенатах» с этим были серьезные проблемы: нельзя было фотографировать, на входе приходилось надевать громоздкие тапки, подъем по узкой лестнице в которых грозил как минимум вывихом и паникой, а в залах журчали монотонные радиоэкскурсии. С тех пор подход изменился, однако, надо полагать, после реставрации музей станет еще более открытым к посетителям.
Выбранная пока в Музее Академии стратегия приближения к отдельным сюжетам кажется вполне удачной. В круглом Екатерининском зале представлены два «Воскрешения дочери Иаира» — дипломные работы Ильи Репина и Василия Поленова, выполненные художниками в 1871 году. Здесь же, рядом с «Воскрешением…», принесшим Репину славу, — его посмертные маска и слепок ослабшей к концу жизни руки. Круг замыкается.
© Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств
В Тициановском зале объекты из усадьбы, живопись и фотографии собраны в тематические инсталляции: в окружении бюстов кресло с зимней веранды, из работ с участием которого могла бы сложиться отдельная выставка (на «Репине. Деталях» показывают портрет актрисы Марии Андреевой 1905 года, прибывший из Национального художественного музея Республики Беларусь); «островок» мастерской, на котором выставлен ранний «Везувий вечером» (1873) из пенсионерской поездки, поздний «Римский воин» (1930) и изготовленные в бутафорских мастерских римские меч и щит; последний дошедший до нас автопортрет (1920) с тем самым «зорко-внимательным» взглядом, репинские палитра и шапка; почти мистический «Пушкин на берегу Невы в 1835 году» (1897–1929) — художник переписывал его в течение тридцати лет — и специально заказанный для натурщика «пушкинский» сюртук, который Репин в 1920-х годах донашивал, как и другие предметы реквизита, из экономии. Есть и «Дьявол» (1890-е) в «…Деталях», и «Балтасар» (1883–1916): эскизы к утраченным картинам «Искушение Христа» и «Иди за мной, Сатано». Здесь же выставлены и другие работы на библейские сюжеты, вдохновленные поездкой в Палестину в 1898 году, а также абы — шерстяные дальневосточные мужские одежды, в которых Репину позировали модели. Впрочем, частично этот блок повторяет репинскую часть экспозиции «Дорогами Палестины», показанную в Музее Академии художеств в 2022 году.
Репин родился в Чугуеве Харьковской губернии и, несмотря на то что его биография теснее связана с Петербургом, а география сюжетов простирается еще шире, к украинской культуре был всегда внимателен — об этом напоминает один из самых интересных разделов нынешней выставки. Впрочем, еще в начале XX века некоторые украинские искусствоведы скептически относились к произведениям мастера на украинскую тему, упрекая их в «шароварщине». Экспозиция в Музее Академии художеств позволяет оценить глубину интереса Репина. Здесь показаны словно излучающие теплый свет «Вечорниці» (1881) — полотно, идея которого пришла Репину во время большого путешествия по Украине в поисках материала для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880–1891); портрет украинской девушки, написанный в 1875 году с Зои Ге (племянницы художника Николая Ге, тоже знаменитого украинофила), и портрет Софьи Драгомировой (Лукомской) 1889 года. Все герои этих работ, конечно, изображены в национальных костюмах, некоторые предметы которых выставлены тут же, на манекенах.
© Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств
Без шаровар также не обошлось. Они — вероятно, добытые для «Запорожцев…» Василием Тарновским-младшим — расположились на выставке в торце Рафаэлевского зала за большим нагим Диоскуром, и, надо сказать, пришлись бы ему как раз впору. В этой части выставки «Репин. Детали» множество и других забавных рифм и занимательных вещиц, но общее впечатление смазывается из-за обилия репродукций. Те работы Репина, что не удалось получить из Русского музея, Третьяковской галереи, других государственных и частных собраний, компенсированы баннерами — порой даже повторяющимися, как в случае с «Запорожцами…». Дьявол по-прежнему в деталях, и эта деталь выставочного замысла кажется чертовской ошибкой, каплей дегтя в репинской бочке. Экспрессивные, колористически насыщенные, перегруженные деталями работы Репина необходимо смотреть в оригинале — во всяком случае, в музее точно не место растиражированным копиям и печати на холсте. Репинская драматизация и театрализация псевдоисторических полотен, разумеется, не может оправдать превращение его живописи в театральный задник для вещей, вышедших на авансцену. Радикальный шаг — рассказать о недостающих картинах исключительно через связанные с ними предметы, наброски, эскизы и прочие мелочи, но без использования декораций-дублеров — возможно оказался бы не менее зрелищным и куда более честным по отношению как к идее выставки «Репин. Детали», так и к ее зрителю.
До 30 марта
Текст: Галина Поликарпова
Заглавная иллюстрация: © Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств
Заглавная иллюстрация: © Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств
Читайте также: