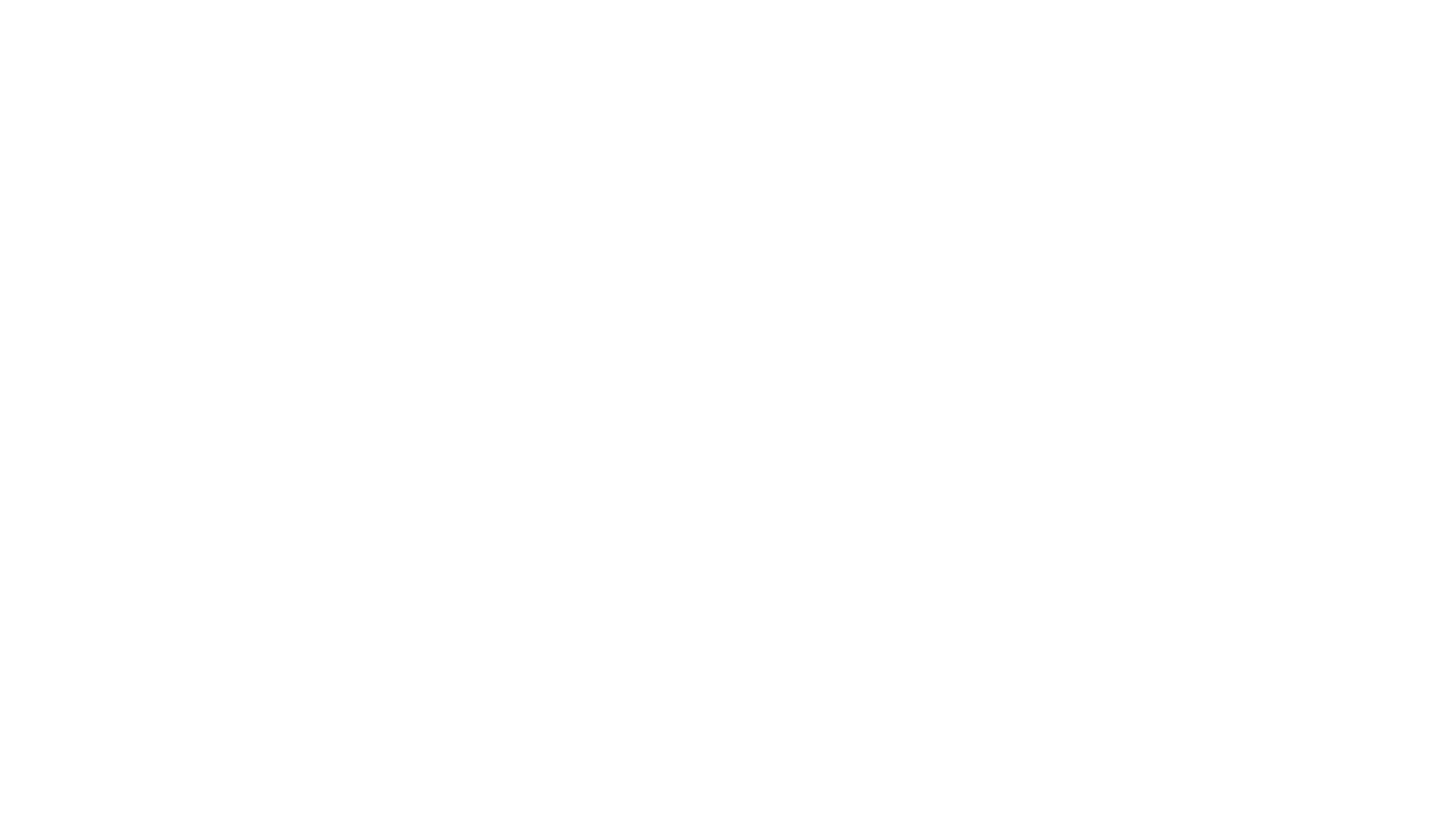| Никто не важнее никого Алексей Гусев — к столетию Роберта Олтмена 16 февраля 2025 |
За всю историю кино лишь двум режиссерам удалось обрести фестивальный «Большой Шлем» — то есть получить главные призы на всех трех главных фестивалях: Канны, Венеция, Берлин. Одним из них был Антониони; вторым же — Роберт Олтмен, которому в ближайший четверг исполнится сто. Или, поскольку Олтмен умер еще в 2006-м, следует написать «исполнилось бы»? Нет, исполнится.
Конечно, не за лауреатство следует его вспоминать и чествовать; чтó фестивали с их призами — суета, которой венчается маета. И иным может показаться, что два этих имени — «при всем уважении» (как говорят, когда хотят отказать в уважении) — несопоставимы: и по калибру, и по влиянию. Но когда год за годом отсматриваешь то, что именуется то «артхаусом», то «фестивальным мэйнстримом», то еще каким нарядным словцом, — обнаруживаешь, что мало кто, как Олтмен, столько в нем определил и обусловил. Мало чье наследие оказалось настолько влиятельно для пришедших на смену поколений — и, соответственно, настолько ими профанировано. Ну разве что еще Антониони.
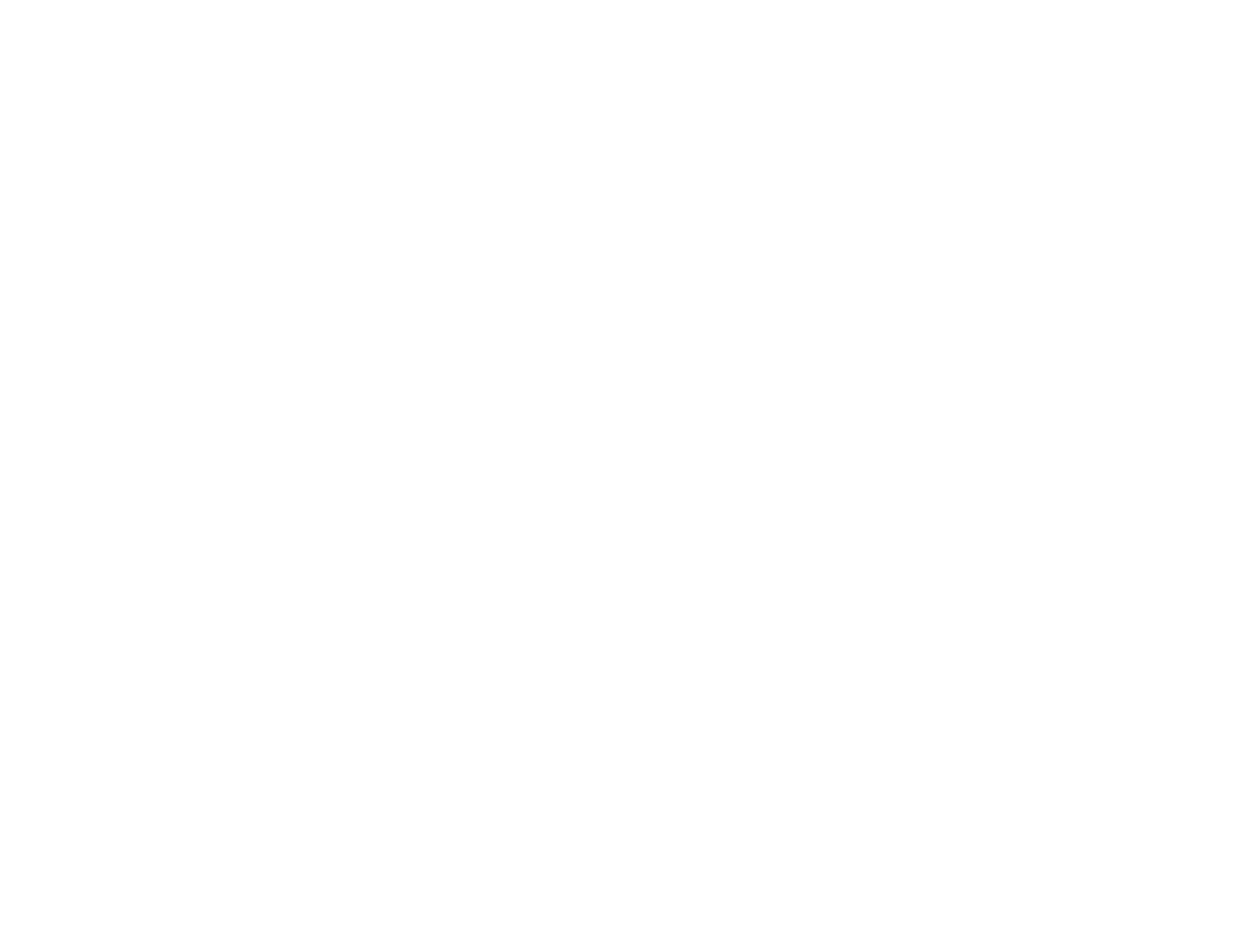
M*A*S*H, 1970 © Twentieth Century Fox
Поначалу ничто, как говорится, не предвещало. Несмотря на то, что слава (вкупе с первым из трех, каннским призом: 1970) досталась Олтмену уже за четвертый его фильм, «M*A*S*H» («Военно-полевой госпиталь»), — она тогда, пожалуй, казалась недолговечной. Громкой, заслуженной, спору нет, но неизбежно врéменной. Отработав все 50-е на так называемом «промышленном кино» (небольшие документальные фильмы, десятками снимавшиеся по заказу корпораций, — почти невидный историкам сегмент послевоенного кинопроцесса, хотя великий Эрманно Ольми, например, начинал так же и тогда же), а все 60-е — на эпизодах для сериалов бурно пошедшего тогда в рост телевидения, Роберт Олтмен начала 70-х годов числился одной из центральных фигур американского ревизионизма. За несколько лет до того пала полувековая голливудская система «студий-мэйджоров», и для так называемого «нового Голливуда» не было занятия и полезнее, и слаще, чем пересмотр экранных мифов, которые сотворила и на которых десятилетиями держалась вся национальная кинокультура, — пересмотр решительный, подчас безоглядный, щедро сдобренный то меланхолией, то сарказмом. Ревизия, наведенная Робертом Олтменом, была самой системной и последовательной среди всех его коллег. Он поочередно нацеливался на какой-нибудь из жанров, составлявших дух и основу старого Голливуда, и, фильм за фильмом, развенчивал — словно бы вытрезвляя — каждый из них. Военный фильм в «M*A*S*H», вестерн в «МакКейбе и миссис Миллер», нуар в «Долгом прощании», гангстерский фильм в «Воры как мы», — здесь ничего не оставалось ни от помпезной героики, ни от щегольской двусмысленности, которые так прельщали в классических образцах этих жанров. Спокойно, ровно, вдумчиво, без цинизма или ярости, коим безраздельно предавались многие его «соратники» по «новому Голливуду», — Олтмен просто разбирал базовые культурные коды по кирпичику, каждый взвешивая заново и находя ему новые смысл и место. Работа была мешкотная, мелкая, хуже вышивания, и до сих пор иные из режиссерских решений Олтмена способны обескуражить; чего стоит один Эллиот Гоулд, неказистый и неряшливый, в роли Фила Марлоу, навсегда, казалось, сросшейся с каноническим и неотразимым образом Хамфри Богарта, — хотя, если вчитаться в Чандлера, Олтмен-то ему окажется «вернее»… Неверно, простодушно было бы считать, будто «развенчание культурных мифов» делается поверкой «реальностью» и в интересах пущего (то есть ложно понятого) «реализма»: в ранних фильмах Олтмена «искусства», «искусности» и вообще «условности» не меньше, чем в тех образцах, которые он ревизировал, и, например, его «Образы» и по сей день можно предъявлять как эталон экранной «вещи-в-себе» — то есть произведения, чье изощренное совершенство внутренней структуры делает и ненужной, и невозможной какую-либо сверку с пресловутой реальностью. Художественная условность необязательно зиждется на слепоте творческого порыва и вообще энергии заблуждения, и трезвость ей не антоним; взяв на себя функцию профессионального, методичного могильщика классического Голливуда, Олтмен отнюдь не хоронил вместе с ним ни понятие жанра, ни понятие образа. Просто пришло время их пересмотреть, вот Олтмен и пересмотрел — жизнелюбивый и обстоятельный бородатый человек, чья карьера всерьез началась, когда ему было уже под пятьдесят.
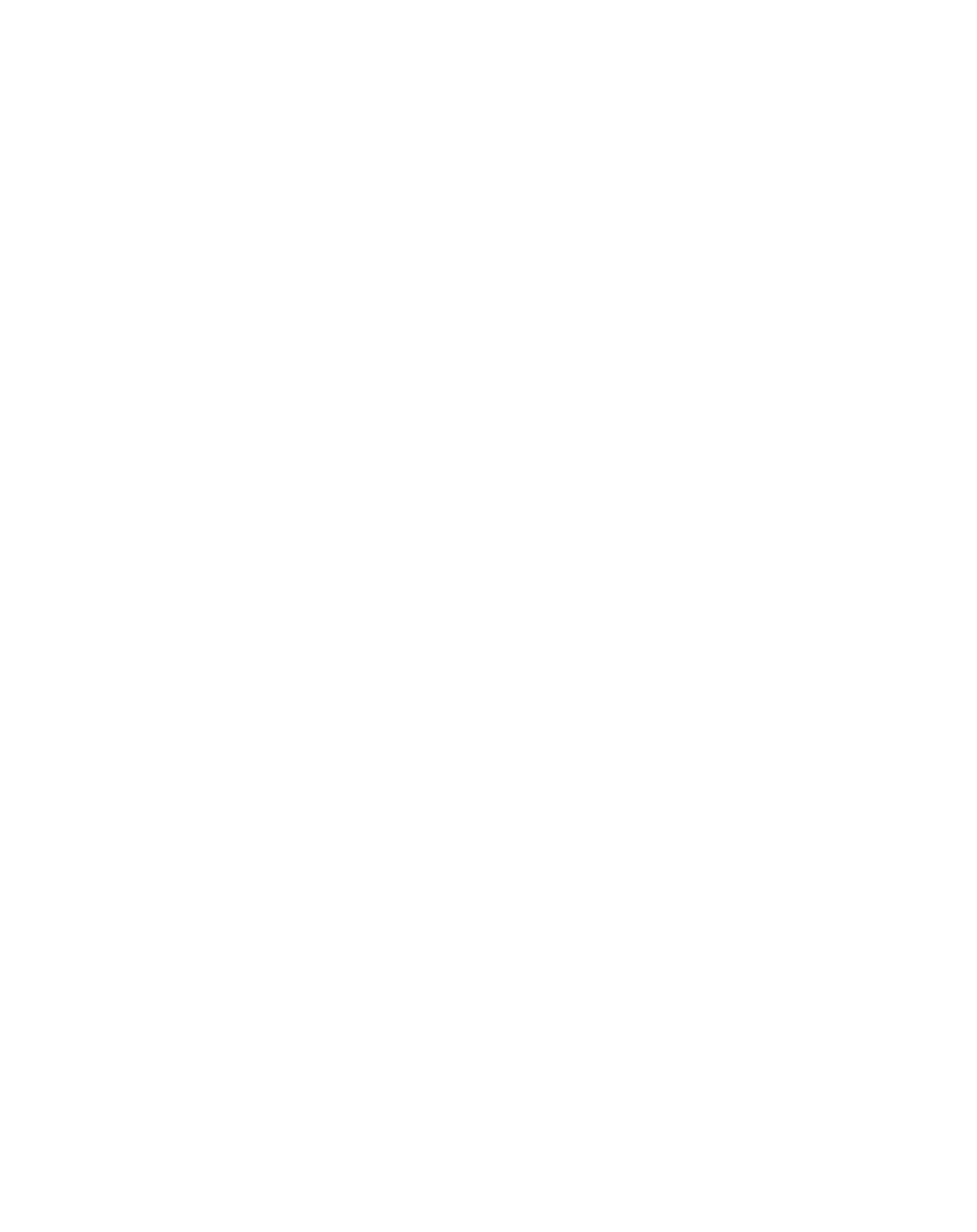
«МакКейб и миссис Миллер», 1971 ©Warner Bros / Photofest
Но в том-то и дело: ревизионизм — занятие заметное, но недолгое. На нем одном долго не продержишься; лучший из олтменовских «соратников», Артур Пенн, тому лучший свидетель, — ни одного проходного кадра до середины 70-х и ни одного значительного фильма после. Олтмену, казалось, была уготована та же участь; более того, казалось, она его и настигла. После «Буффало Билла и индейцев» (второй, берлинский, главный приз: 1976), своего последнего, монументального упражнения в ревизионизме, — если только ревизионизм может быть монументальным, а судя по этому фильму, может, — Олтмен как-то теряется. Нет, среди его фильмов есть и важные, и попросту превосходные («Свадьба», «Нераскрывшиеся парашюты»), Роберт Олтмен по-прежнему присутствует внутри кинематографического ландшафта, просто… просто он словно бы скрылся за каким-то холмом. Бредет там себе, время от времени показывается, вновь скрывается. Такой вот отрезок пути. Да и то сказать, ему уже за шестьдесят. Никто не удивится, если пожилой путник так больше уже и не окажется на виду. За сделанное спасибо, пережить свою эпоху — драма, которая однажды настигала почти всех, даже и самых великих, а дальше — кому уж сколько отпущено.
Олтмену, однако, было отпущено с лихвой. И в начале 90-х, после, казалось бы, совсем уж безнадежных «Здоровья» и «Винсента и Тео», триумфальный каннский показ «Игрока» предъявил киномиру «второго», «позднего» Роберта Олтмена. Который уже больше никуда и никогда не скрывался.
Ресурс, благодаря которому Олтмену удалось вернуться в 90-е, был на самом деле заложен еще тогда, в 70-е, и назывался он «Нэшвилл». Вроде бы вполне вписывавшийся в тогдашний курс (в тот раз автор разбирался с мюзиклом), «Нэшвилл», действие которого происходило на кантри-фестивале в штате Теннесси, содержал два десятка сюжетных линий, прихотливо сплетавшихся, переплетавшихся и вновь расплетавшихся в течение почти трех часов экранного времени. Никто не был там центральным и главным, все сновали и жили свои занятные жизни посреди мира большего, чем им было дано узнать и понять, и вот уже сам музыкальный фестиваль, точнее — само сценарное повествование о нем превращалось в гигантский джем-сейшн, где каждому бывает дано свое соло — с тем, чтобы несколько тактов спустя слиться с гулом звукового фона, где каждый важен для сюжета, но сюжет не принадлежит никому.

«Короткий монтаж», 1993 © Fine Line Features
Именно этот взгляд на мир, где в каждой фасетке олтменовской оптики находится уютное место для своего обитателя и где амбиции каждого из них укрощаются не авторским назиданием и не фатальной неуклонностью повествовательного хода, но простым, едва ли не коммунальным сценарным соседством, и составил основу позднего олтменовского кинематографа — воспряв уже в «Игроке» и обретя на следующий год почти пугающий размах в «Коротком монтаже» (третий, венецианский, главный приз). Именно этот, поздний Олтмен — куда больше, чем ранний, пусть даже ревизионизм ныне и снова в чести — и оказался столь влиятелен для нескольких режиссерских поколений, пришедших в кино на пороге нынешнего столетия или уже за ним. Подлинную, джазовую демократичность олтменовских конструкций эти поколения воспримут как урок новомодной «горизонтальности» и научатся сплетать линии персонажей (или имитировать это плетение) в сложную ткань мира, будет ли идти речь о сентиментальных перекличках или же о взаимной социальной ответственности. Другое дело, что в олтменовской полифонии были то жизнелюбие и та щедрость, которые у следующих поколений оказались в изрядном дефиците, и джаз слишком часто вырождался в рейв. Да и финальный подъем над миром, который позволил бы завершить — то есть свести в единую точку последнего титра — фильм, где никто не смог выбиться в главные, мало кому давался, и последний эпизод «Короткого монтажа» остался здесь образцом недосягаемым, эпигоны же, по большей части, довольствовались замиранием экранного действия в многозначительную или, того хуже, умилительную паузу.
Что ж, на то они и эпигоны; перенять можно все, кроме последнего штриха. И столетие Роберта Олтмена — прекрасный повод пересмотреть, конечно, что угодно из его наследия, но паче всего — последний штрих самого его творчества, «Компаньонов», где маленькая музыкальная радиостанция ведет свой последний эфир перед тем, как навсегда закрыться. Одним из персонажей здесь, не слишком рядясь в бытовые личины, оказывается сама смерть. Но и она тоже — не главнее никого.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © ABC/Kobal
Заглавная иллюстрация: © ABC/Kobal
Читайте также: