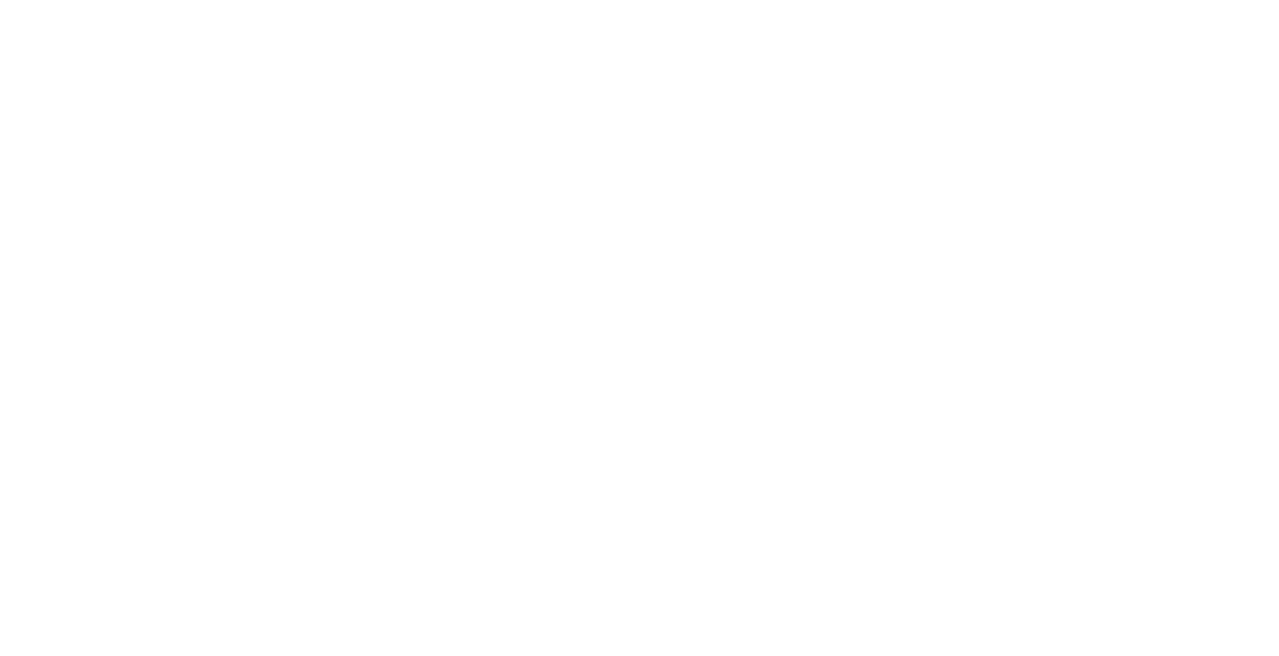Вся безумная больница у экранов собралась Алексей Гусев о «Слове пацана» Жоры Крыжовникова 27 декабря 2023 |
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана», последняя серия которого вышла на минувшей неделе, произвел в российском обществе столь сильный шум, что на несколько недель возродил иллюзию существования российского общества. Внезапность и непреложность этого эффекта даже вызвала к жизни конспирологические версии о заказе властей (он же происки спецслужб), еще трикрат укрепившиеся благодаря «делу о слитой демо-версии». В Госдуме и на вольном воздухе, в соцсетях запрещенных и нет, по тамбурам и кулуарам — всюду вскипели споры: романтизация или обличение? ода или диагноз? воспевание, замаскированное под критику, или критика, замаскированная под воспевание? Умные, казалось бы, люди до хрипоты обсуждали, верно ли в сериале передан дух эпохи, типичен ли Вова Адидас и чем отличались уличные группировки конца 80-х от 70-х и, наоборот, 90-х, а исповедальные рассказы о пацанском детстве приобрели характер не то флэшмоба, не то флуда. И, как обычно, единственными мерилами правдоподобия — отчего-то по умолчанию выдаваемого за высшую добродетель и поперек здравого смысла именуемого реализмом — выступали личный опыт и личная картина мира, умещая почти весь дискурс дискуссий между «вот тогда-то все и началось» и «у меня в Астрахани в 88-м тоже был случай».
Банальнее всех этих суждений лишь вот какое: ни одно из них не имеет отношения к собственно сериалу. Одни зрители использовали «Слово пацана», чтобы увериться в своих страхах, иные — чтобы пополнить ресурс злости или отчаяния, третьи — чтобы вновь обвинить все тех же все в том же, и все — чтобы утвердиться в собственной правоте. Не потому, что фильм Крыжовникова таков, — любой фильм таков. И если этот вызвал больше шума, чем любой другой в последние годы, то лишь из-за того, что зрителю оказался важен материал, а не из-за мифического «авторского месседжа»; автор обеспечил лишь правильную меру подробности, она же — мера двусмысленности. С точки зрения социологии ажиотаж вокруг «Слова пацана» драгоценен, и любая служба соцопросов смогла бы получить несравненно более точные данные о состоянии страны и ее населения, если бы вместо «пойдете ли вы на выборы» и «одобряете ли вы действия президента» спрашивала «как вы относитесь к Эльдару Юнусовичу», «надо ли было свергать Кащея» и «считаете ли вы граждан РФ пацанами или чушпанами». (Сам по себе рейтинг сериала, конечно, тоже кое о чем свидетельствует, но он — просто температура и природу лихорадки уточнить не может; от чего только не бывает 39°,2.) Но увы, подобных вопросов населению не задают. Возможно, потому, что они, как говорится, «заставляют задуматься». Вот к чему стоило бы приглядеться знатокам происков спецслужб.
© Start
В развернувшихся дискуссиях о «Слове пацана» есть еще одна черта, сводящая их и так призрачную ценность совсем уж к нулю: даже самые вдумчивые из них касаются исключительно сценария. Кто когда какую реплику произнес, кто как отреагировал, кто на что решился, кто какой выбор совершил, а кому выбора не осталось и отчего же так вышло, — все подобные рассуждения сами по себе могут быть занятны и душеспасительны, но в устройстве этого сериала мало что объясняют (даже когда ведутся на несколько готическом языке сериальных критиков с «арками» да «кольцами»). По нескольким причинам, из которых самая простая такова: это довольно средний сценарий. Есть в нем умелые ходы, есть небрежные; есть пара отменных, есть вовсе никудышные. Зрители подменяют логику сценария личным опытом не только потому, что это привычно и естественно, а еще и потому, что логика эта слишком уж много где провисает. Насколько нов для прошедшего Афган Вовы Адидаса опыт убийства лицом к лицу? Отчего трус и слюнтяй Кирилл в финале на очной ставке вдруг оказывается отважным правдолюбом (да еще и таким осведомленным)? Как объясняет себе Ира разрыв с возлюбленным и в какой мере следствием этого разрыва является опека над сестрой главного героя и сближение с ним самим?.. Для каждого из зрителей ответ на каждый из таких вопросов, скорее всего, однозначен, вот только ответы эти будут сильно разниться — поскольку окажутся обусловлены зрителем и его личным «знанием жизни», а не фильмом. Здесь добрая половина мотивировок пропущена, еще треть — дана, но не отработана, а из оставшейся одной шестой половина пропадает втуне из-за скверной актерской игры нескольких ведущих исполнителей. О том, насколько ослаблены сценарные связки между событиями, можно судить уже хотя бы по тому, сколь многое удалось — когда понадобилось — изменить в финальной серии, где все накопленное, все налаженные сюжетные линии обязаны, вроде бы, сплестись в тугой, фатально-безжалостный узел. И ведь сплетаются. В обеих версиях. И оба узла тугие. И оба равно обусловлены сценарной логикой. И различий между ними едва ли не больше, чем сходств.
В случае большинства сериалов всего сказанного с лихвой хватило бы для весьма прискорбного вердикта. Сериал в куда большей степени, нежели кинофильм, зависим от сценария, от логики характеров, поступков и событийного ряда; а то, что «Слово пацана» — проект вполне авторский и что его сценарий, пусть в соавторстве, написан самим Крыжовниковым, вроде бы только усугубляет ситуацию: как на уровне сериальной режиссуры связать то, что — у тебя же — уже на уровне сценария расползается, как кровь по асфальту?.. И это почти правильный вопрос. Просто ответ на него прямо противоположен ожидаемому. Крыжовников действительно писал сценарий, что называется, «под себя», — в расчете на собственную режиссуру, заранее слыша свой ритм и тон. Сценарий здесь — не самостоятельный материал, не стройная история, безупречность которой является вызовом для берущегося за нее режиссера, в этом творческом процессе нет паузы между готовностью сценария и началом режиссерской разработки; сценарий здесь — лишь сырье, сразу заготовленное с расчетом на режиссуру. А сырье не обязано быть стройным. Событийный ряд здесь — не столько полноценный конспект, сколько шпаргалка, вещь сугубо практическая: в темных местах подробная, ясные же — пропускающая. Это не значит, что сценарные дефекты при воплощении чудесным образом оборачиваются достоинствами; дефект есть дефект, и там, где мотивировки нужны, хорошо бы они все ж таки были б. Но это значит, что дефекты эти не портят целого. Да, сценарий сериала «Слово пацана» ощутимо страдает дефицитом логической связности, — а вот сам сериал нет. Потому что его связность, в отличие от того самого большинства сериалов (в том числе великих), укоренена не в сценарии. Она в режиссуре. Она тут не антураж; она тут главная.
© Start
О том, насколько режиссура существует поверх сценария и его логики, можно судить уже по самому началу первой же серии, где одним и тем же коротким монтажом дана и история завязывающейся дружбы двух главных героев, и сцена драки. В чем вроде бы нет никакого смысла: если драка — основа того мира, куда главный герой в результате этой дружбы попадает, то как определяющий ее монтаж может описывать его историю, когда он туда еще не попал? Но в том и дело, что автор — в отличие и от «пацанов», и от «чушпанов», — никакого «двоемирья» здесь не видит. Они вот видят, и усердствуют в проведении границы, и определяют ею свое поведение и саму жизнь свою, а он — нет. Как режиссура идет поверх сценария, так и режиссер стоит поверх этой границы, видя ее умышленность и ненадежность. Сбившая с толку легионы зрителей двусмысленность почти каждого из героев (и совсем «положительные», и совсем «отрицательные» тут редки) и «пацанского мира» в целом, из-за которой они то чутки и благородны, то — в следующей же сцене — явлены как отпетые подонки, более всего коренится не в «сложности человеческого существа» и не в «смятении эпохи», а в том, что никакого такого отдельного мира и такой отдельной породы вовсе нет. Есть лишь те, кто в это верит. Только пацаны считают, что пацаны существуют.
Ничто из того, во что верят герои сериала и в чем они самой своей судьбой так успешно убеждают зрителей, режиссурой не оправдывается. Нет, казалось бы, ничего — в самом ужасном смысле этих слов — неизменнее и непреложнее, чем старушечье горе, и ход с гибелью Ералаша, до которой он успевает купить любимой бабушке утюг, тем безотказнее, чем дешевле (а дешев он беспримерно); но вот в финале горюет уже мать Желтого, так же безутешно, так же разрывая сердце (не только зрителям, но и, например, убийце), и какова теперь цена этому горю, обернувшемуся подзаборной бранью в адрес племянницы? Родители Вовы и Марата чувствуют унижение от того, кем стали их дети, а мать Андрея ее унижение вовсе сводит с ума, и тут не место оговоркам (разве что совсем уж озлобленным): ну просто в дом хороших людей постучалась беда, — но пару серий спустя столь же глубокое унижение начинает чувствовать и отец Айгуль, мерзавец и сволочь, зеркально переворачивая само это понятие. Одна из самых забавных зарисовок — гопники, впервые смотрящие порнофильм, и решена она как чистый ритмизованный гэг; но еще немного — и эта же видеокассета послужит триггером для самого кошмарного события сериала. А бритая голова главного героя делает его равно пригодным и к банде, возглавляемой «афганцем» В.К. Суворовым, и к Суворовскому училищу, чей начальник отъелся на воровстве провианта для «афганцев», — но эту рифму замечает паскуда-комсомолец, и она тут же теряет определенность сатирического штриха, поскольку (пусть и очень косвенно) приведет в комсомол Суворова-младшего… Казалось бы, впрочем, все это как раз уровень сценария, — но на том уровне подобные перевертыши выглядят в лучшем случае ловкими, вообще же говоря — натянутыми, к тому же — несколько сомнительного вкуса. И можно (да и, что уж там, нужно бы) долго и содержательно рассуждать о том, как именно устроена режиссура Крыжовникова, — по работе с остраняющими приемами, с цитатами, с верхними ракурсами, с ландшафтом, — дающая этим перевертышам оправдание и укореняющая их в предлагаемой картине мира. Но, возможно, достаточно будет сказать о том, что представляется основой этой режиссуры, ее стилеобразующим приемом. Потому что (так уж сложилось, и даже примерно понятно, за какие грехи) за последние четверть века в российском кинематографе было всего два автора, для которых основой их режиссуры был — монтаж. И один из них, ясное дело, Тимур Бекмамбетов; второй же — как раз Жора Крыжовников. Который всегда, с самого начала, мастерски делал вид, будто монтирует по беспределу. А сам монтировал по понятиям.
© Start
Если совсем коротко, то Крыжовников делает вот что: он начинает с того, что монтажом изымает микросвязки между жестами. Андрей подошел к больничной кровати — Андрей сидит на кровати: вырезаны пять секунд движения «садится», единство действия разорвано без видимой причины. И это, во-первых, создает некую динамичность и даже порой бойкость поведения героя (оставлено только то, где у героя есть цель, а у актера — задача), а во-вторых, это динамичность и бойкость марионетки, передвигающейся пофазовыми толчками, будто в кукольной анимации. Именно здесь коренится та самая принципиальная двусмысленность крыжовниковских персонажей (во всех фильмах): этот монтажный ход создает в их поведении двойной эффект «деловитости» и полной подчиненности повествованию, они объекты, мнящие себя субъектами, и чем они практичнее, тем безвольнее. Но чем дальше по фильму, тем чаще эти микросвязки восстанавливаются, склейки редеют, жесты удлиняются, и герои действительно обретают свободу существования в мизансцене, — долго огибая столы, долго опускаясь на снег, — а значит, и задачи теперь менее вычленимы и ясны, и свобода несет растерянность, и длящееся время кадра растворяет в себе былую, мнимую хватку героев… Можно сказать, что все фильмы Крыжовникова — о постепенном размывании уклада, будь то уклад свадебного церемониала, как в «Горько!», уклад гламурной жизни, как в «Звоните ДиКаприо», или двойной, «пацанско-чушпанский» уклад в «Слове пацана». Но с «человеческой» (точнее, антропологической) точки зрения фильмы Крыжовникова помещают своих героев между двумя противоположными полюсами, заставляя их по ходу сюжета пробираться от одного к другому. От бойкого безволия — к растерянному бессилию. От стройной картины мира, у которой они в заложниках, к распавшейся, где им более нет места. Чем жестче и короче монтаж, тем надежнее существование этих кукол; но клещи склеек разжимаются, и вот они уже смертны. И любая отпущенная им подлинность, длящаяся и недолгая, оказывается видна «под вьюгу за окном», — как в последней сцене свидания Андрея с мамой, ради которой одной, с этой экранизацией образа из никитинской песни, и впрямь стоило бы переснять финальную серию.
© Start
«Слово пацана» — работа неровная; материал, с которым попытался совладать автор, столь огромен и страшен, что разрывает не только сценарную логику, с чем почти всюду справляется режиссура, но иногда и режиссерский рисунок, с чем справиться уже нечему. В отличие от «Звоните ДиКаприо», — лучшего, если по чести, отечественного сериала 2010-х, где Крыжовников аккуратно прочертил траекторию от почти Минаева в первых сценах до почти Сокурова в последних (не говоря уже о том, что вынудил Александра Петрова раз в жизни сыграть большую хорошую роль), — здесь в жертвы к хаосу, размывающему ориентиры и понятия, попадают не только герои, но, кажется порой, и сам автор, слишком хорошо слышащий вьюгу за окном, в рамке которого он танцует свой танец. Тем более, что в изменении сцены свидания с мамой, сделанном в финальной серии (как, впрочем, и почти во всех других), он вполне точен, — когда переносит его из дома, куда маму якобы на денек отпустили, в палату больницы, — той самой, о которой с голоса Высоцкого пел Вова Адидас у могилы своего афганского сослуживца. Здесь вьюге и впрямь удобнее смотреть через кадр окна на тех, кто собрался внутри палаты и думает, что еще будет счастлив. Когда-нибудь, Бог даст.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Start
Заглавная иллюстрация: © Start
Читайте также: