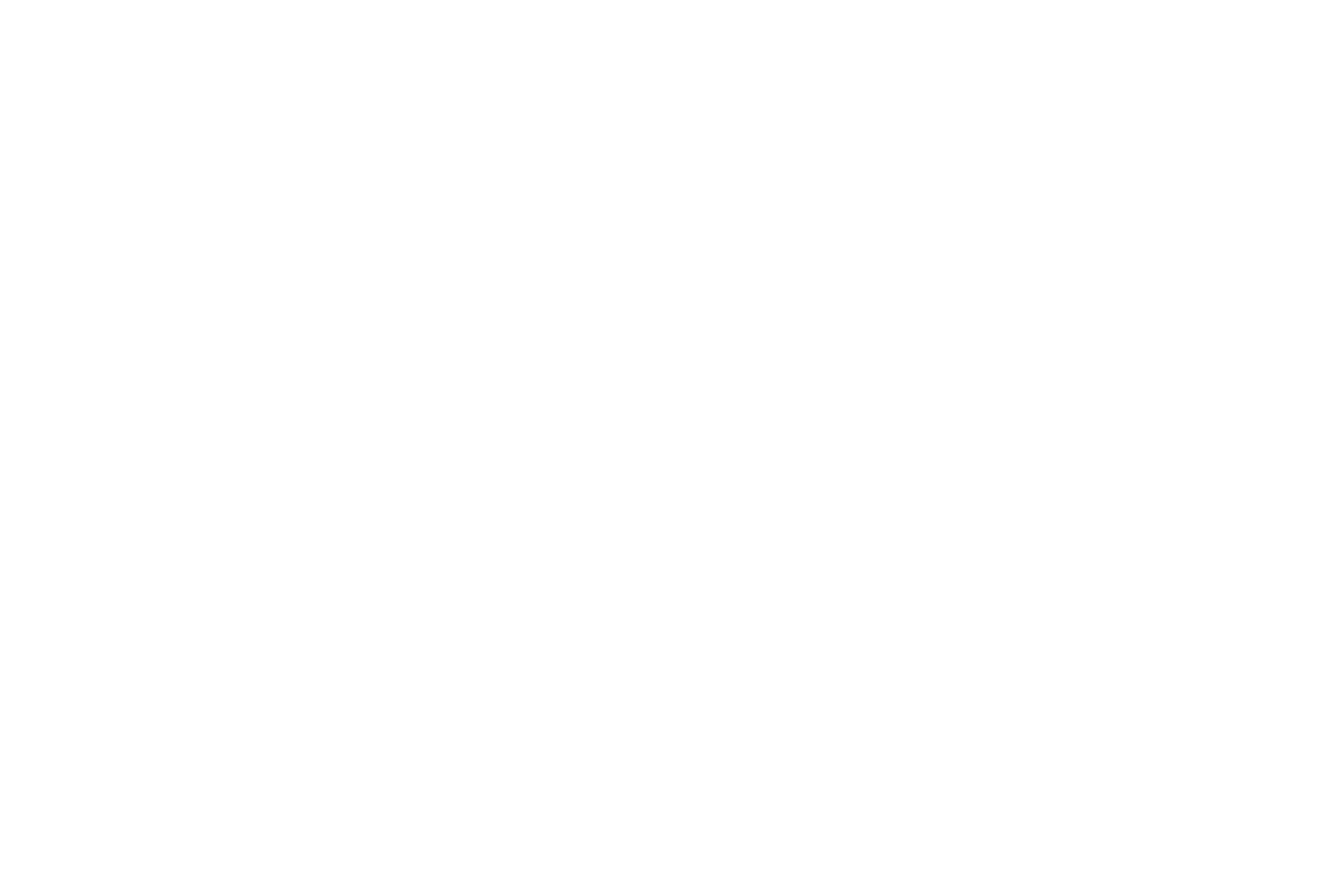| Мистерия-бафф «Спасибо за ничего» Антона Селезнева в Екатерининском собрании 8 апреля 2025 |
Судьба Екатерининского собрания непредсказуема, но типична. Здание, возведенное в начале XX века для сценических представлений, дало приют дюжине хлебо-зрелищных трупп — балету Сергея Дягилева и оперетте Николая Северского, театру Политуправления Балтийского флота и кинофабрике «Советская Беларусь», а впоследствии конструкторскому бюро и нескольким комитетам городского правительства. Вслед за каждым новым постояльцем менялся и облик Собрания, и его витиеватый, с загогулинами рококо и модерна интерьер со страниц журнала «Зодчий». Исчезали декоративные элементы, закладывались проемы, росли друг на друге перегородки, трещали слои штукатурки, срывался и куда-то уносился пол, лоснился с аварийным горем пополам евроремонт. Выделка с дублением преследовала Собрание, как и весь Петербург, — здесь и сейчас готовятся к новому раунду реставрации. Начиная с приготовлений к трехсотлетнему юбилею в 2000-х годах и не менее активно после него, ткань города постоянно оборачивалась саваном лесов, консюмеристской растяжкой или полотном бунтарского самовыражения. Выставка фотографий Антона Селезнева «Спасибо за ничего» в странных картонно-казенных и изысканно-руинированных декорациях Собрания, ставшего пару лет назад частью досугового попурри «Петербург-концерта», — город шиворот-навыворот и город свежепахнущей краски.
Антон Селезнев, также известный как Selone, фотографирует уличных художников с 2007 года. Подобно главному герою фильма «Выход через сувенирную лавку», он оказался в тусовке райтеров и стал ее документалистом случайно: просто снимал на улице все подряд — велосипедистов, скейтбордистов, первую попавшуюся большую надпись на стене, а затем и тегающего друга. Спустя годы в Екатерининском собрании при поддержке Института исследования стрит-арта и галереи Inloco Селезнев презентует увесистый, почти на пятьсот страниц, альбом: здесь фотографии с 2010 по 2022 год (хотя, по сути, 2022 почти не представлен) на цифру и пленку, с экспериментальными эффектами и через разные объективы («фишай», например, был подсмотрен в клипе Децла «Вечеринка»), панорамы проспектов, величественные особняки и заброшки попроще, силуэты скользящих по ним авторов-одиночек и коллективных тел команд. Кого-то Селезнев только фотографировал, кому-то, фотографируя, ассистировал. Тысячи кадров, сделанные за это время, понятное дело, войти в книгу не могли. Точно так у организаторов выставки не было задачи показать хотя бы половину фотографий из альбома — представлены не более двадцати снимков. Дело и в здравом смысле, и в нежелании выстраивать традиционную экспозицию, и в безопасности (на «Спасибо за ничего» нет, например, изображений разрисованных поездов, так как за такой вид творчества грозит уголовная статья, о чем прекрасно осведомлены тут же, через канал Грибоедова от Собрания — расположение напротив управления Росгвардии, конечно, придает контркультурной выставке некоторой пикантности).
© Проект Антона Селезнева «Спасибо за ничего»
Баннерная ткань, обычно прячущая несовершенства зданий, маскирующая их, словно маскарадное домино, и предсказывающая неузнаваемое преображение (кто-то выскочит новехоньким, точно при Царе Горохе, Джакомо Кваренги или Бартоломео Растрелли, кто-то недолюбленным рассыпется в пыльную крошку, освободив место чудищу-новострою), — так вот, такая упаковка для построек по воле архитектора Андрея Воронова на выставке «Спасибо за ничего» стала основным медиумом. Избранные фотоработы Селезнева увеличены до потолка и, ломано рифмуясь, интегрированы в качестве своеобразных панно в интерьеры Собрания. Пространство таким образом ширится и играет на контрасте и сопричастности, этакой аналоговой иммерсивности. Рядом с витражами и розовыми банкетками — фотографии уличных художников в контражуре. На лестничных пролетах стяги поставлены так, что зритель оказывается словно на месте фотографа и может проследить за направлением его взгляда ввысь или вниз. Стены — к стенам: в одном из залов узнаются столь непохожие локации, излюбленные граффити-комьюнити, — это необарочный особняк Игеля и здание пороховых складов в Лисьем носу (к слову, по следам партизанского бомбинга к этим местам потянулись инвесторы и КГИОП). Несколько дней после открытия в концертном зале Собрания, обозреваемом с балкона, лежал гигантский баннер со сфотографированным с высоты рисующим на крыше петербургским райтером, известным как Weckman. Вскоре работу убрали — и теперь, придя на выставку и вскарабкавшись наверх, зритель видит декорации к спектаклям из репертуара «Петербург-концерта», задник бюргерского городка и фанерный замок с башенками. Город вывернут наизнанку: внешнее вторгается внутрь, полотна с фасадов и фасады на полотнах впаяны в глянец и руину убранств, а начертания полуанонимных авторов, часто воспринимающиеся как вандализм и смытые как можно скорее, — стали объектом внимательного созерцания.
Граффити (и все его подвиды) — моментальное монументальное искусство, не от того, что создается зачастую в несколько быстрых росчерков, а потому что век его непредсказуемо короток. Противоборство «нечистых» и «чистых» продолжается, только теперь — в «Мистерии-бафф» — противостоят друг другу упорные райтеры («Сегодня / над пылью театров / наш загорится девиз: / "Все заново!" / Стой и дивись!») и коммунальщики, те, кто обреченно отвоевывает и маркирует неблагополучную городскую среду, протестуя против всего, и те, кто, представляя унифицирующую власть, уже замешивает серую краску, чтобы спрятать под баффом новый «кусок». Являются ли эти «куски» шедеврами (piece of masterpiece), а теги действительно искусством, — предмет не только бытовых дискуссий и академических споров (искусствоведческих, антропологических, социологических, урбанистических etc.), но и разногласий среди самих райтеров, многие из которых отвергают музеефикацию, институционализацию и консервацию стрит-арта, а также выступают против заимствования художественных решений граффити в маркетинговых и патриотических акциях. Однако нет никаких сомнений, что этому явлению культуры (или контркультуры) генетически близки пещерная живопись, граффито Алексамена и черточки древних римлян, художнический агон, взятие недоступной высоты («От отдыха тело отучим! / По ярусам / выше! / Шагайте по тучам!») и рисование вверх тормашками, точно Микеланджело в Сикстинской капелле, каллиграфическая импровизация и рокайльный завиток, экспрессионистская клякса и перформанс, наконец l'art pour l'art, искусство ради искусства, искусство просто так — или, иными словами, спасибо за ничего.
© Проект Антона Селезнева «Спасибо за ничего»
Выставка Селезнева, как и его книга, — не документальный и не исследовательский проект, а прежде всего художественный. Посвящен он не столько богатой орнаментике никнеймов, сколько сотканной из них изменчивой мембране Петербурга. Чтущий свою заброшенность город глотает влажный воздух через пористый мрамор, заводской красный кирпич, кракелюр штукатурки, залитый желтым светом переход под землей и ночные рисунки на стенах — таинство это, правда, становится все недоступнее и опаснее (с некоторых пор даже три буквы на заборе превратились в угрозу национальной безопасности). Снимки Селезнева кажется уместным сравнить с работами столпа ленинградско-петербургской фотографии Бориса Смелова: хотя их подходы, поэтика, переживание городского ритма различаются, объектив каждого пристально вглядывается с крыш в глухие тупики и дворы-колодцы, понурые углы открыточных видов. Аполлон с пауком на щеке Смелова из Летнего сада и большая голова статуи Невы, сидящей у подножия Ростральной колонны, Селезнева — меланхолия воспоминаний и бесстрастный взгляд вперед — маргиналии-помарки на полях выхолощенного города.
До 13 апреля
Текст: Галина Поликарпова
Заглавная иллюстрация: © Проект Антона Селезнева «Спасибо за ничего»
Заглавная иллюстрация: © Проект Антона Селезнева «Спасибо за ничего»
Читайте также: