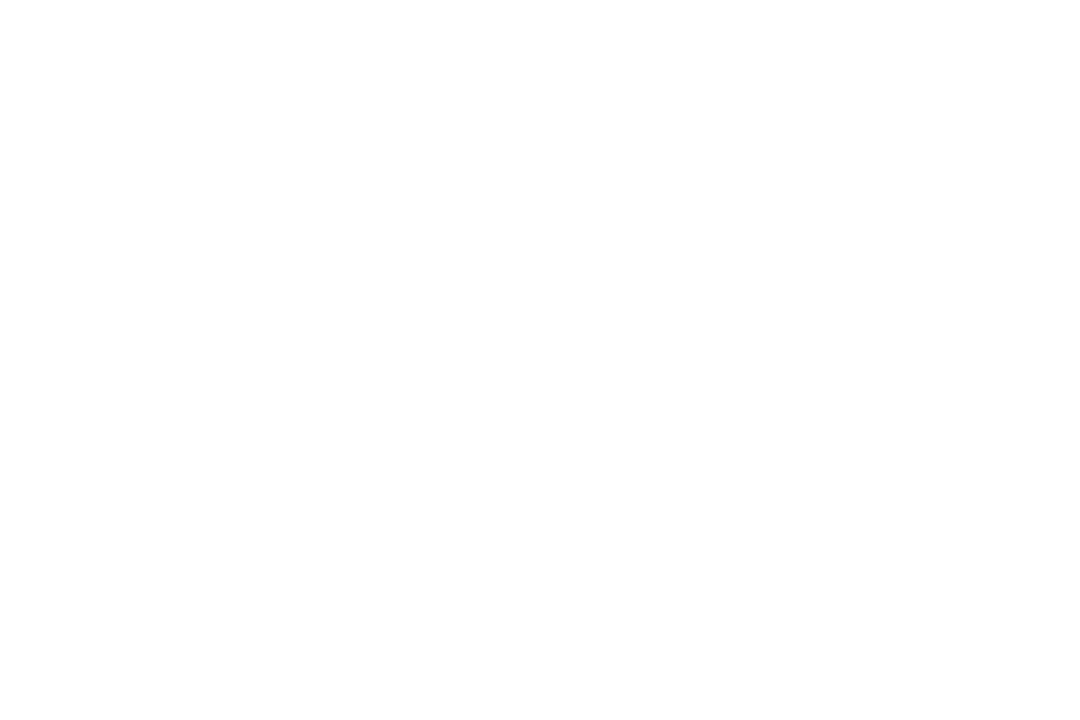| Фасоны Интербеллума Галина Поликарпова об «Упакованных грезах» в Эрмитаже 2 июля 2025 |
Взобравшись на хоры Манежа Малого Эрмитажа, удастся окинуть взором публику выставочного хита этого лета. Что на вернисаже, что в обычный день экспозицию «Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева» в броуновском движении пересекают сверкающие толпы модниц и модников. Успех столь велик, что по средам, четвергам и воскресеньям организованы дополнительные сеансы посещения, а работа эрмитажного Манежа продлена до девяти вечера. По субботам до полуночи импровизирует Шуваловский проезд, ведущий к выставке: здесь проходят музыкальные шоу «Джаз-променад в ритмах ар-деко». Популярность проекта понятна и оправдана: ар-деко — последний большой стиль, нарядный и лакомый, кроме того, «импортный», в полной мере не снискавший аналога в Стране Советов. Пароксизмы НЭПа заслонялись конструктивистской геометрией и этническими орнаментами республик, что было отмечено даже на давшей ар-деко название Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств (Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes), устроенной в Париже в 1925 году. Представлявшие павильон СССР Мосэкуст (Московская кустарно-экспортная контора) и модельер Надежда Ламанова при деятельном участии художниц Евгении Прибыльской и Александры Экстер, скульптора Веры Мухиной и модельера Надежды Макаровой получили тогда гран-при и золотую медаль за национальную самобытность показанных нарядов.
Модели Надежды Ламановой, экспонированные на Всемирной выставке в Париже 1925 года © каталог «L'Art décoratif et industriel de l'U.R.S.S.»
Выставка в Эрмитаже посвящена не столько ключевой экспозиции эпохи ар-деко и вовсе не советским перекличкам с ней. Распаковке на «Упакованных грезах» подлежит коктейльно-вечерняя мода США и Западной Европы 1918–1939 годов — времени между двумя мировыми войнами, ревущих и золотых двадцатых, сжатого, точно плиссе, в несколько десятилетий века джаза, шимми и шляпок-клош (Интербеллум оказался так щедр на социально-культурные новшества, что его характеристике и периодизации не хватит объема, отведенного под весь этот текст). Предметы на выставке — несомненные атрибуты изобилия и роскоши, предоставленные, помимо Назима Мустафаева, и другими частными коллекционерами. В полумраке зала мерцают бисерные платья для танцев и торжественных выходов, сшитые вручную Пьетро Янторни шелковые лодочки и редкие аксессуары для обуви, японские кимоно с «европейскими» принтами из собрания Натальи Бакиной и сумочки с лицами будуарных кукол (как далеко до них сегодняшним обвесам!), принадлежащие Павлу Карташеву и Вадиму Полубоярцеву. Наконец единственный в Советском Союзе Buick 44, привезенный в 1929 году заместителем наркома авиационной промышленности Михаилом Ивановым из Америки и остававшийся до 1973 года заложником подмосковного гаража, — так боялся владелец, что автомобиль, предназначенный для красивой буржуазной жизни, будет конфискован (теперь Buick стал экспонатом Музея техники Вадима Задорожного). Даже живопись на хаотично расставленных мольбертах — «Царица ночи» (1911) Жоржа Барбье, ню в зеркале (1912) Жана Жовено, полунагая «Женская фигура» Андре Фавори (ок. 1924) и «Швеи» (1925) Массимо Кампильи из собрания Эрмитажа — здесь скорее игривая часть воображаемого дорогого интерьера, салон, но не демонстрация художественных достижений сопутствующего ар-деко модернизма. На этюд к портрету Лидии Делекторской (1934), выполненный тонкой карандашной линией Анри Матиссом, то и дело проливается ослепляющий свет проектора, показывающего фрагменты фильмов, записи ревю и водевилей танцовщицы Жозефины Бейкер и труппы Meglin Kiddies, — рисунок в этом неестественном освещении словно бы подменяет медиум, уходя даже не к серебру кинопленки, но к зернистой текстуре LED-экрана.
Упакованные грезы в представлении культуролога Маршалла Маклюэна, из чьей книги «Понимание медиа: внешние расширения человека» и позаимствовано название выставки, в первую очередь означают кинематограф — «стимул, рекламу и сам по себе товар», продукт фабрики грез, транслирующий и формирующий желания. В Эрмитаже эта формула обретает иное, но все же довольно близкое прочтение: упакованные грезы — это искристые «обертки» и «маски» голливудских актрис, танцовщиц, дам полусвета и прочих эксцентричных красавиц. Маклюэновская теория внешнего расширения человека также может трактоваться буквально: к «протезам», характерным для эпохи ар-деко, относятся и съемные целлулоидные каблуки с инкрустациями и гравировками, и декоративные стяжки для лодочек, и курьезные накладки на обувные пуговицы, и, конечно, странно искажающие женскую фигуру бисерные феерии от модельеров Поля Пуаре и Мариано Фортуни. Хотя образы для торжественных случаев, показанные на выставке, не дают полного представления о моде 1918–1939 годов, они красноречиво свидетельствуют об изменившихся обстоятельствах и потребностях.
© Олег Золото
В фасонах Интербеллума эклектика археологических сенсаций, социальные и гендерные трансформации, чаяния и горькие разочарования. Фортуни с Генриеттой Негрин придумали плиссированное платье «Дельфос», инспирированное древнегреческой бронзовой статуей «Дельфийский возничий», а Пуаре обратился к пеплосу (верхней одежде женщин Древней Греции и Древнего Рима), японскому кимоно и персидской вышивке. Простые прямоугольные силуэты платьев сэк-лини из мягких полупрозрачных тканей роднятся и с древнеегипетским калазирисом — в 1922 году была открыта гробница Тутанхамона, и египтомания охватила весь мир. Впрочем, помимо культурных предпосылок, к которым можно также отнести популярность свободного танца Айседоры Дункан, избавиться от корсетов вынудила Первая мировая война (так называемые военные кринолины еще какое-то время удерживали позиции, но вскоре также были отвергнуты). Женщины осваивали мужские профессии, и их одежда становилась свободнее. Свобода же шла рука об руку с раскрепощением: к концу 1920-х годов длина подола танцевального платья достигала колен (отсюда пристальное внимание к ногам, шелковым чулкам, туфлям из кожи и парчи и каблукам, которых так поразительно много в коллекции Мустафаева), низкая талия позволяла сделать глубокое декольте и вырез на спине, руки обнажались. В моде андрогинные фигуры, короткие стрижки, драматичный макияж, энергичные танцевальные движения, опиум. Эйфория.
Архитектура «Упакованных грез», продуманная театральными художниками Эмилем Капелюшем и Юрием Сучковым, интонирует выставку, организует пространство в соответствии с пусть неявным, но отчаянным (во всех значениях этого слова) настроением. Хаотичная экспозиция не мешает просмотру — манекены сгруппированы на островках, — однако задает разнонаправленные векторы, бесконечные зигзаги фокстрота. Лестницы тут и там гротескно подражают застройке кинопавильона. Это лестницы в небо, стремянки для строительства воздушных замков, шаткие подпорки для витающих в облаках, для томных газовых проекций. В конце зала ритм сбивается: здесь темнее всего, тревожно мельтешит зеркало, пустуют стулья и небрежно оставлены ноты, оркестр покинул кабаре. В простенках галерей — таймлайны. Один посвящен истории костюма и обуви, другой — подготовленный Молодежным советом Эрмитажа — культурным и политическим событиям, нередко катаклизмам. Россыпь приведенных фактов и цитат способна напомнить, что вытесненными со страниц Vanity Fair и Harper's Bazaar, тщательно задрапированными под слоем крепдешина и дансингом золотого стекляруса оставались эпидемии, голод, безработица, гиперинфляция и экономический крах, а также все громче звучащие призывы к насилию. На подкладке «Упакованных грез» триптих Генриха Эмзена «Борьба и смерть товарища Эгльгофера» (1931–1933) — заказанная советским правительством работа на сюжет революционных событий 1919 года из жизни Баварской советской республики, просуществовавшей, впрочем, не больше месяца. Эмзен принимал участие в том восстании, конечно, не зная, что политические пертурбации только набирают обороты: дальше художника ждали запрет, изъятие из музеев и уничтожение работ, гестапо, показы на выставках Дегенеративного искусства, соглашательство и сотрудничество с нацистами, после войны работа в Академии искусств в Западном Берлине, увольнение за поддержку Всемирного конгресса сторонников мира и переход на сторону Академии искусств в Восточном Берлине.
© Анастасия Большакова
На этой неделе в KGallery завершается выставка «Почему, почему я лучше всех?», посвященная Даниилу Хармсу и его шести рукопожатиям, то есть метаистории Ленинграда все того же периода, 1920–1940-х годов. Автором дизайна этой экспозиции стал, как и в случае с «Упакованными грезами», Капелюш (на этот раз вместе с Яной Глушанок). Неудивительно, что в художественном оформлении обеих выставок удастся обнаружить схожие, нет, не приемы, но материалы. Витрины «Почему, почему я лучше всех?» декорированы пеплом, изготовленным из копировальной бумаги, — лейтмотив, подводящий к чемоданчику, в котором в 1941 году Яков Друскин уносил из дома, частично разрушенного взрывной волной, рукописи Хармса. Из того же материала, из тонкой копирки, сделаны прически а-ля-гарсон или бубикопф на головах манекенов в Эрмитаже. Однако эти изысканно-обезличенные куклы не посыпают голову пеплом, пока их беззаботные темена украшают, скорее, шапочки из фольги.
До 7 сентября.
Текст: Галина Поликарпова
Заглавная иллюстрация: © Анастасия Большакова
Заглавная иллюстрация: © Анастасия Большакова
Читайте также: