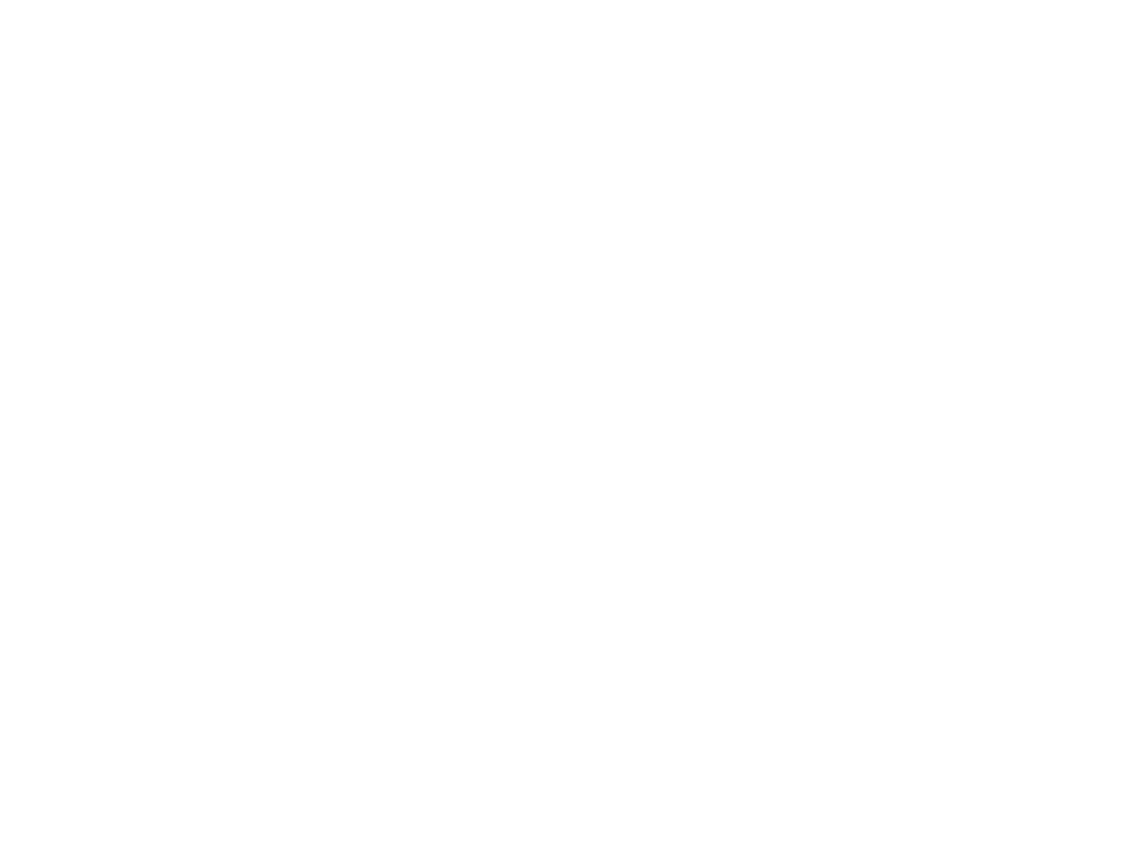Слишком человеческое Алексей Гусев о «Вертинском» Авдотьи Смирновой 4 октября 2021 |
Любой исторический фильм, не говоря уж об историческом сериале, — лакомая пожива для всех любителей повыискивать, вооружившись Википедией, недостоверности и несуразности. В случае сериала «Вертинский» они могут даже не трудиться серфить. Джон Шемякин, персонаж культовый и неподражаемый, возведенный Авдотьей Смирновой из исторических консультантов в соавторы сценария, наперед — самим своим участием, даже одним лишь присутствием — делает все их потуги тщетными и праздными. Как ни мало толку в самой постановке вопроса об «исторической достоверности» экранного произведения, — обаяние подлинности фактур и сюжетов, каких ни один сценарист не выдумает, кой-какую ценность иметь может. Укорененность событий в логике контекста. Невидимая подоплека процессов. Ирония сплетений судеб. Атмо-, наконец, -сфера. «Вертинский» — прекрасный пример того, сколько может выиграть исторический фильм, если в сценаристах у него — человек, одержимый уставами, уложениями и дней минувших анекдотами.
И еще — препоучительный пример того, как этот выигрыш можно обнулить.
Дело отнюдь не в том, что «достоверность» здесь касается (как, собственно, и положено) исторической среды, а не событийной канвы, то есть не сковывает фабульного вымысла, и что с биографией самого главного героя сценаристы обращаются более чем вольно. Не очень важно, что Вертинский сидел в румынской тюрьме не за контрабанду, — мог и за нее. Не очень важно, что хозяином константинопольского кабаре «Черная роза» был не русский эмигрант, а местный турок. Не очень, наверно, важно, что поклонником Вертинского в Добровольческой армии была не некая сентиментальная вешательница Бурковская, а весьма харáктерный субъект генерал Яков Слащев (хотя отказ от подобной фигуры, признаться, труднообъясним). Во всех этих — и десятках других — случаях формула «могло быть и так» на творческом поле и впрямь предпочтительнее формулы «а было эдак». Скажем, когда юный Вертинский однажды обнаружил, что скат крыши под его окном усеян баночками из-под кокаина, то в ужасе решил ехать к психиатру, а по дороге к нему в трамвай подсел памятник Пушкину. В сериале же баночки на скате крыши Вертинский видит после гибели сестры от кокаина, а Пушкин в наркотической галлюцинации является одному из его друзей. Дурна ли эта сценарная резвость? Вовсе нет. И грамотна, и остроумна. Как остроумна и безобидна здесь еще одна забава сценаристов — пересыпать текст фамилиями их знакомцев: то пьесу написал Волобуев, то на пирсе в Галлиполи торчит Хомерики, то греческий паспорт выправил себе Шемякин… Перемигивания эти, конечно, более приличны акунинскому сюжетосложению, нежели байопику; с другой стороны, должны же как-то авторы заражаться авантюризмом у собственных сюжетов. Вполне жанровый ход, словом.
Кое-что сомнение, положим, все же вызывает, но по мелочам. Вот в Одессе мужичье рубит топором стоящий на улице рояль; и все бы тут правильно, кроме слова «стоящий». Как же это доставили рояль из дома на улицу, что у него ножки не подломились? Аккуратно вынесли, чтобы потом наброситься с топором? Рояли в Одессе имели обыкновение при погромах выбрасывать из окон (см., например, рассказ Веры Инбер «Параллельное и основное»), и топором эту рухлядь уже можно было только добивать. Или вот зал, который на концерте хором подпевает Вертинскому «Лилового негра». Понятное дело: Константинополь, эмигранты, ностальгия и проч., — но в те времена подпевали артистам все же одно лишь народное, «авторским» же ариэтткам слушатели разве что тихо «подшептывали». И как ни нужно сценаристам в этой точке сюжета единение артиста с публикой, — устраивать из турецкого кабаре КСП, поющий «Атлантов», кажется все же несколько избыточным.
Повторюсь: это все мелочи; впрочем, среди них есть и покрупнее, и похарактернее. Вот объяснение Вертинского с Верой Холодной; та, желая оставить любовника, начинает вдруг нести выспренную ахинею, на что герой отвечает: «Ты стала разговаривать дурными фразами из дурных сценариев». Довольно загадочное замечание, учитывая, что на дворе эпоха немого кино и никаких фраз в сценариях нет и в помине (даже реплики в интертитры вписывались позднее, уже после съемок, в сценариях их не было). Но это уже не простой «ляп», не неряшливый анахронизм, — тут сценаристы, вольно или невольно, выдали намерение, можно даже сказать — замысел. Если очень грубо и коротко, то он таков.
«Вам кажется, что тогда все говорили именно так, выспренно и томно, — но это лишь призма стиля и оптика исторической дистанции. Обитатели той эпохи изъяснялись столь же просто и безыскусно, как и мы. И наш сценарий написан именно с этим прицелом: увидеть идолов эпохи, изломанных и жеманных, в их будничности и простых человеческих страстях, заземлить их, расколдовать, приблизить. В разные эпохи стили разнятся, люди же — нет, они всегда примерно одни и те же. Клише, связанные в коллективном сознании с именами Вертинского или Холодной, — это просто “дурные фразы из дурных сценариев”; наш же — хороший, и фразы в нем хорошие, потому смена тона у Холодной в этой сцене так и заметна, так и режет слух, — чтобы оттенить стереотип и тем развенчать его».
© «Первый канал»
Что ж, в непоследовательности этот замысел — можно даже сказать, «концепт» — не упрекнешь. Собственно, он заявлен в сериале сразу, с первой же сцены, когда одна из случайных знакомиц Вертинского и его друзей, расположившись посреди их богемной мансарды, изъясняется хрестоматийными репликами из фельетона Тэффи «Демоническая женщина». Вот «тональность при ключе», вот регистр отношения авторов к стереотипическим характеристикам эпохи: фельетонный. А учитывая, что заглавный герой сериала — одна из главных «икон» того стиля, поставленная задача выглядит весьма амбициозной. В каком-нибудь основательном киноведческом исследовании можно было бы вволю порассуждать о том, насколько этот концепт историчен — или, наоборот, антиисторичен, и о том, насколько камера сама стилизует действие в реконструированной исторической эпохе, а насколько — напротив, позволяет увидеть ее наново, напрямую, без искажающей оптики стереотипов… Но в рамках критической рецензии достаточно удостоверить, что сама по себе, принципиально, такая постановка задачи вполне правомерна.
Сама по себе. Если не говорить о ее воплощении.
Потому что для воплощения эта постановка оказалась губительна.
Дело в том, что Авдотья Смирнова — уже давно очень хорошая сценаристка. Порой ее сценариям, пожалуй, недостает композиционной стройности, порой — смысловой тонкости, но по мастерству реплики, по ритму диалога, по дозировке умолчаний, по речевым характеристикам и много еще чему другому ей в современном отечественном кино равных мало. Проблема же в том, что режиссер Авдотья Смирнова тоже твердо знает, насколько хороша сценаристка Авдотья Смирнова. И всецело на нее полагается.
Делает склейку сразу после окончания реплики. Меняет крупность в зависимости от произносимого текста, точнее даже — для иллюстрирования текста (достаточно посмотреть хотя бы, как возникает общий план в сцене с Надей в гостиничном номере в первой серии). Короче — не снимает фильм по сценарию, но экранизирует сценарий. Со слепой преданностью оригиналу.
В «Связи» или «Кококо», где речь шла почти только о взаимоотношениях героев, это изрядно портило фильм, но было еще, скажем так, терпимо. Но там, где дело касается исторического жанра: эпохи, фактуры, контекста, — дефицит окружающего мира, чье дыхание не сводится к событиям и диалогам, оказывается фатален. Самые сложные и дорогие декорации мигом вырождаются в задник, на фоне которого острословят ряженые. И никакая введенная в текст «достоверность фактуры» тут не спасает — просто потому, что не работает. В константинопольской комнате хозяйка отговаривает Вертинского спать на полу, потому что «много тараканов», и советует намазать ножки кресла, на котором тот притулился, керосином, потому что «много голодных клопов». Про керосин — это хорошо, да. Только ни клопов, ни тараканов в той декорации, где снимается эта сцена, отродясь не водилось. И не только потому, что декорация тут умелая, но чистенькая и мертвая. Вот герой, выслушав совет, засыпает на кресле, а вот он уже поутру просыпается и встречает хозяйку рассказом о своих ночных взаимоотношениях с клопами. От одной разговорной сцены — напрямик к другой. То, зачем вообще нужна фактура в историческом фильме: когда герои не разговаривают, а вообще, может, даже спят, что-то вокруг продолжает ползать, копошиться, осыпаться, покусывать, тревожить, — здесь в изображении отсутствует начисто. Но это как со слезами на сцене: плачет либо актер, либо зал. Может, мы бы даже поверили героям на слово, что там, к примеру, клопы и даже много. Если бы столь беззаветно им не верил на слово режиссер.
Но все эти дефекты, обычные для фильмов Авдотьи Смирновой, поставленных по сценариям Авдотьи Смирновой, в «Вертинском» стократ усиливаются благодаря тому самому «концепту». Нарочитая простота актерской фразировки — лишь бы сбить стереотип запойной жеманности Серебряного века — оборачивается таким снижением героев, что впору недоумевать, откуда тот самый стереотип и взялся-то. Ни в поступках героев, ни в их мотивировках, ни в манерах — никакого и намека на стилизацию. Ну, чуть-чуть рисуются перед друзьями и возлюбленными — но по обстоятельствам, не по натуре. Натура здесь у всех просто человеческая. Слишком человеческая.
Опять же: Бог с ней, с исторической достоверностью, — хотя, по мемуарам, письмам и документам судя, хмельной угар обреченности и вычурность поз пронизывали именно что быт предреволюционной столичной России, а не только оформлялись стихами да представлениями. Но вот та самая Бурковская, которая вешательница, окруженная трупами и вообще хаосом гражданской войны, убеждает Вертинского, что она и ее офицеры не всегда были извергами. «И в нас тоже было что-то человеческое». Полноте, что значит «было»? В вас только оно и есть. Вот вообразить вас извергами — тут действительно затруднение выйдет, тут нужен иной способ игры, иная мера артистизма, иная погруженность в стиль эпохи, — а откуда всему этому взяться, если все люди здесь — всего только люди?.. «Не ваш грех — ничтожество ваших грехов вопиет к небу», как говаривал автор формулы «человеческое, слишком человеческое».
Не в «калибре», впрочем, дело, — в типах, которые автор выводит на экран. Кое-кто из героев сериала — бесспорные гении, а значит, что уж там, в частной жизни они вполне могут оказаться «меж детей ничтожных мира всех ничтожней», — но «не так, как вы — иначе». То, что Мозжухин в сериале не явлен одним из величайших актеров в истории кино (которым он был), — не беда; а вот что этот дешевый хлыщ не обладает и сотой долей того природного артистизма, который потребен, чтобы, оказавшись под прицелом камеры, вдруг обернуться величайшим актером, — это уже серьезно. То, что сам Вертинский по-хамски помыкает своим восторженным аккомпаниатором, плохо не потому, что помыкает, а потому, что по-хамски. И если хорошему актеру Филимонову в заглавной роли еще дана свобода продемонстрировать хотя бы изысканность осанки, то у всех остальных здесь — и хороших, и плохих — сама возможность артистизма экранного существования ампутирована «концептом» напрочь. (Конечно, актеров вроде Сергея Уманова никому не обуздать, — но он все же выходец из лучшей в сегодняшней России актерской школы Льва Эренбурга, что в данном случае обеспечивает ему, пользуясь цеховым жаргоном, непобедимую «самоигральность».) Здесь у всего и вся — одно лишь частное измерение. Ничего не личного.
© «Первый канал»
«Меня интересует только искусство», — заявляет друзьям Вертинский в первой серии; и это как раз тот случай, когда на слово персонажу верить не следует. Первый зрительский успех? «Кокаинетка», смонтированная с историей погибшей сестры. Главный зрительский успех? «То, что я должен сказать», навеянное случайной встречей. Там, где нам показана «творческая лаборатория артиста», — Вертинский в сериале Смирновой работает не образным восприятием, но непосредственным переживанием. А вот на свидании с аккомпаниатором в румынской тюрьме Вертинский надиктовывает ему «В бананово-лимонном Сингапуре», и тот, натурально, поражается, — как он смог вот здесь, среди этого смрада и этих отбросов, написать столь вычурное, изысканное танго?.. И это действительно непонятно. Не зрителям — авторам. Этот сеанс «творческой лаборатории» от зрителей скрыт. Поскольку по законам, установленным авторами для своего сериала, показать его невозможно. Согласно этим законам, Вертинский что-то воспринимает, впитывает, проживает — и потом про это поет. «Вы работаете как вол, на износ», — пеняет ему аккомпаниатор. И опять — не надо верить на слово: никакой работы артиста, — то есть главного героя, про которого снимают аж целый сериал, потому что он артист, — в этом сериале нет. Эта птичка Божия то влюбляется, то бездельничает, то опять влюбляется. И раз в серию поет песню, вынесенную в заглавие серии. Все остальное экранное время либо почивая на лаврах, обеспеченных неведомым трудом, либо срывая концерты из-за любовных передряг.
Еще раз: все это — неизбежное, необходимое следствие авторского замысла. Сцены и диалоги, написанные Авдотьей Смирновой за последние 15 лет, тем лучше, чем инфантильнее поведение героев. Когда они наконец перестают (обычно из-за любовного упоения) прикидываться взрослыми и начинают дурачиться, дуться и паясничать, — о, тут Смирновой попросту нет равных, и это «кококо», к которому, в общем-то, сводится текст, она переписывает на сотни ладов, с мельчайшими нюансами, выявляющими характеры и взаимоотношения. Александр Вертинский и Вера Холодная в минуты любовных забав ведут себя неотличимо от героев «Связи» и «Кококо», — хотя выдавать эти повадки и ужимки позднесоветской богемной образованщины за универсальный эталон значит, пожалуй, несколько переоценивать значимость личных непосредственных переживаний. Этот инфантилизм — не последняя правда о человеке, а такая же черта эпохи, какой была утомительная жеманность для Серебряного века; просто — другой эпохи. История артиста, для нескольких поколений бывшего иконой стиля и обломком былых времен, превращена здесь в плутовской роман-фельетон о похождениях нежного повесы, эдакого Тома Джонса-Хуренито: по одному женскому типу (женщина с детьми, женщина в летах, женщина-загадка) на серию. Что, конечно, может рассказать о нашем герое что угодно, кроме двух вещей: почему он артист и при чем тут стиль. Ну, если не считать того непреложного тезиса, что «артисты — они такие».
…История Александра Вертинского и впрямь — превосходный материал для фильма. Мало чья судьба в XX веке настолько годится для размышлений о самой сути артистизма, и его байопик вполне мог бы встроиться в благороднейшую череду классических образцов — от «Детей райка» до «Мефисто». В сериале его попадание санитаром на фронт, смехотворно случайное, выглядит откровением «жестокой правды» для праздного богемного юнца; сам Вертинский, однако же, полагал тот эпизод своей биографии чистым позерством и уповал лишь, чтобы сделанные тысячи перевязок вернулись ему аплодисментами. Он действительно был позером — но в этом позерстве не было позы, ничего наносного, что исчезало бы с уходом со сцены; оно было органичным, всеобъемлющим, определяющим. Он обожал безвкусицу и не выносил пошлости; его манерностью восхищался Качалов и чаровался Галич (два не самых падких на дешевку человека); он использовал нелепую маску Пьеро, как иные — нелепейшую морковку в петлице: как трибун, для нападения на зал, яростного и безоглядного (недаром же он был близок к футуристам); он мыслил эффектами, страстями и сюжетами, — ходячая нелепица, жеманник и нарцисс, сделавший из своего безголосого кривлянья зеркало для всех горестей мирских. Все, что нужно было, чтобы рассказать об Александре Вертинском, — это перестать считать его человеком и начать ценить в нем артиста. Потому что больше там ценить некого.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Юниверсал Россия
Заглавная иллюстрация: © Юниверсал Россия
Читайте также: