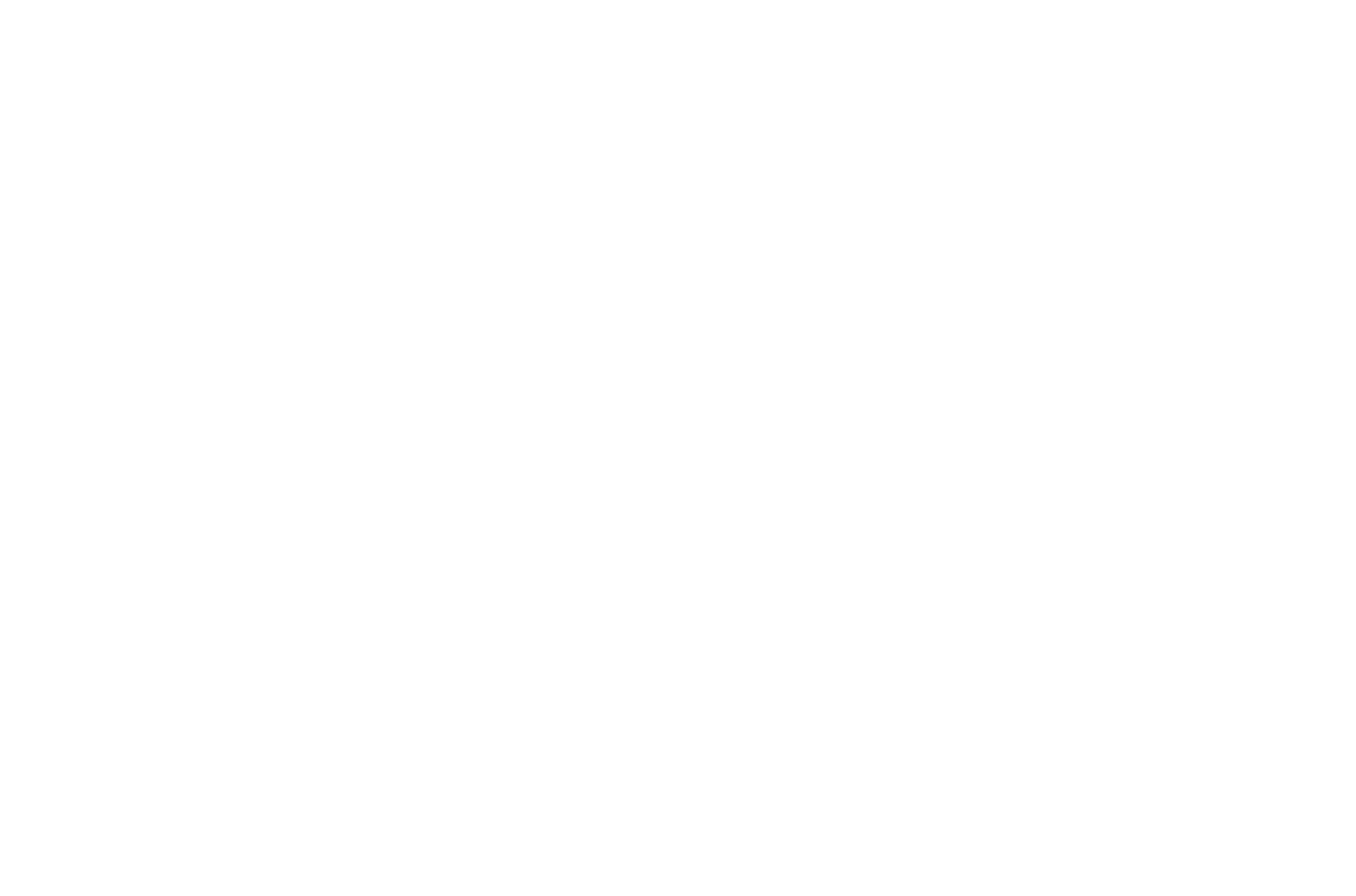| Управа на ветер Алексей Гусев о «Ветре» Сергея Члиянца 6 декабря 2025 |
Свой первый фильм, «По прямой», Сергей Члиянц поставил в 1992 году; после этого ушел в продюсирование (выпустив, среди прочих, «Мама не горюй», «Бумер» и «Настройщика»), а с середины 2000-х удалился из кинематографа и много лет только тем и был жив, что ходил по морям да дружил с друзьями, — пока недавно, только что, не поставил свой второй фильм: «Ветер». И как ни претит вашему присяжному рецензенту обычай вводить личность автора в рассуждение о фильме, тут без этих нескольких слов (которые, впрочем, вот уже и кончились) не обойдешься. Не объяснишь, почему это кино, как к нему ни отнесись, такое настоящее. Как стало принято говорить лет сто назад — «из бывших».
Сценарий «Ветра» был написан тогда же, прежде, в начале 90-х — Петром Луцыком и Алексеем Саморядовым, двумя гениями киносказа о скончании времени, которых их век не попустил из него выбраться. Повесть об Иване, который за гнилое море ходил, рыбу-сома промышлял, душегубом стал, а как вернулся, свою Катю мертвой нашел да мертвой не признал, — эта повесть о том же мире, что и «Окраина», которую Луцык успел поставить сам, и «Дикое поле», которое не успел; а мелькнувший посреди местных степей Митрофан Романович Сковородников, что вещает тут своим избранным о детях богов (в этот раз не чугунных), в рассказе «Северная одиссея» окажется наместником в сибирской тайге. Но, в отличие от многих других авторов, Луцык и Саморядов позволяли своим персонажам кочевать из одного текста в другой не для «единства художественного мира», а просто потому, что попробуй их удержи. Не в том дело, что мир-де един, а в том, что простирается. И все в нем простирается — от тайги до окраин. Может, и сузить бы, да не сузить.
© «Пигмалион продакшн»
Здесь бы, по всему, нужен абзац стилистических прикрас и дурно понятой эрудиции. О том, как на этой земле пылит дорога и дрожат кусты. Как ненадежен тюль и как беспомощен ситец. Как смерть пахнет рыбой, как сухо трещат доски икон под бременем человечьей тоски и как ветер оставляет железистый привкус. Как пустота этих просторов оборачивает каждый жест ритуалом и каждую исповедь угрозой; вообще — как в простом слове «русский» оказывается слышен отчетливо сектантский оттенок. Можно с искренним восторгом описать, как Иван, неся тело жены, вскидывает его на бегу, или как виртуозно выныривает из-под помоста камера, словно затактом, форшлагом задавая пляску одного из героев, — ибо это моменты чистого кинематографического откровения. А можно в который раз помянуть Победоносцева с его «ледяной пустыней, по которой бродит лихой человек», и неумело пошутить про гнилое море — ту же Россию, если ее не подморозить. Можно вспомнить и вовсе про Ницше, чей мельком полыхнувший афоризм «“у злых людей нет песен” — отчего же у русских есть песни?» тут впору хоть эпиграфом ставить, — неизвестно лишь, чтобы подтвердить или опровергнуть. Хотя лично для меня, признаться, к финалу фильма память о Победоносцеве, Леонтьеве и даже Ницше затмило воспоминание о покойной бабушке, которая, с изумительной интуицией исказив канонический текст Гребенки, пела мне в детстве: «Наша армия опять куда-то шла…».
Что ж, будем считать, что этот абзац написан. И можно было бы, свернув рецензию до заметки, на этом и заканчивать — воспев и восхитившись, а для пущей основательности (и должного объема) еще и поочередно похвалив всех причастных. Но у фильма Сергея Члиянца, помимо вдохновенного сценария и безупречного замысла, есть и фактическая составляющая — то есть стиль. И вот он уже требует не литературы, но разбора. И вот здесь уже то самое, в начале написанное «из бывших» оказывается не похвалой или порицанием, но одним из ключей.
Главное в фильме под названием «Ветер» — это то, что ничто в нем не становится добычей ветра. Тот дует, веет, колышет траву, гонит перекати-поле, взвивает водяные смерчи — но неизбежно и неизменно оказывается укрощен раскадровкой: сухой, нервной, властной. «Поднимается ветер» здесь — не процесс, который удлинял бы планы и вел панорамы, развеивая фабулу по просторам, но, почти всюду, краткая констатация, зафиксированная реакция мира, почти отбивка. Рука автора столь уверенна, что ветер ей не указ и не помеха; он — часть конструкции, пусть и несущая, а не дух, ее творящий и растворяющий. Такой рукой не время растушевывают по кадру — такой рукой ставят паруса. Здесь и ветру, и сому, и сердцу девы — есть закон, и тишина в доме, где часы больше не идут, не становится дольше и протяжнее той, прежней, которой они отмеряли уют и уклад.
© «Пигмалион продакшн»
Это само по себе, разумеется, не «плохо» и не «хорошо», — это разве что нетипично для того отечественного кинематографа, который так привык гордиться (а то и кичиться) своими длиннотами. И, идущая вроде бы поперек материала, эта сухость почерка сама по себе ему ничем не вредит; пресловутая «хтонь» сквозит из сочленений и сбоев, черпая из них остротý и тревожность, и финальный ритуал Ивана над телом жены держится монтажом и благодаря ему осуществляется — причем, пожалуй, куда убедительнее и непреложнее, чем это было бы при «долгих вглядываниях» и «веянии экранного времени». Даже некоторый щеголеватый «перебор» с резкостью (как, например, в монтажном членении коня в начале фильма: грудь, холка, пах) здесь выглядит погрешностью разве что против строгого вкуса, словно лишний мордент в фуге. Да будут благословенны те времена, когда за этакие детали вновь можно будет пенять режиссерам.
Проблема, однако, в том, что найдя управу и на ветер, и на степь, и на бога, и на саму смерть, — Члиянц пасует и робеет перед тем, что оказывается здесь куда высшей ценностью: перед сценарным текстом. Речь, фразы, слова, написанные некогда покойными сценаристами, оказываются здесь заботливо, слишком заботливо убережены от любой убыли и гнили, будь то морской или воздушной. Дело даже не в конкретике актерского исполнения (хотя с заданной авторами речевой условностью актеры, надо признать, справляются неравноценно, иногда в пределах одной сцены); дело в том, насколько звучащая речь подчас оказывается нечутка к пейзажу, и в укрощении его автором она ни на той, ни на другой стороне — не властвует и не покоряется. Вот бредут двое по общему, очень общему плану, и беседуют себе, и набегает на них огромная тень — и нет этой тени в звуке речи, ни в тоне, ни в четкости. Речь эта словно бы не внутри видимого мира звучит, но поверх его, вне его. Оттого так хороши здесь песни, несущиеся по-над пейзажем, сплавленные музыкой со светом и цветом мира, — и оттого же так порой неловки реплики и монологи, которые «вытарчивают» из сцен: то по крупности, то по монтажу, то по ракурсу, то по актерской подаче. Этого не то чтобы очень уж много; но то там, то здесь, то так, то эдак — речь посреди степи звучит так, словно ее из заветного сейфа вынули, и выпирает из ткани фильма гранитным обелиском своим сценаристам. Словно бы Луцык и Саморядов должны оказаться посмертно иммунны от этого ветра и от дикости этой голой степи; словно бы Члиянц, подобно своему Ивану, проводит жесткий раскадрованный ритуал над их памятью, дабы воскресить и обратить в песню, но то и дело срывается в костенеющую мемориальную речь.
Что ж, Ивану придется легче. Ему, по крайней мере, не дано будет отличить пораженье от победы.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © «Пигмалион продакшн»
Заглавная иллюстрация: © «Пигмалион продакшн»
Читайте также: