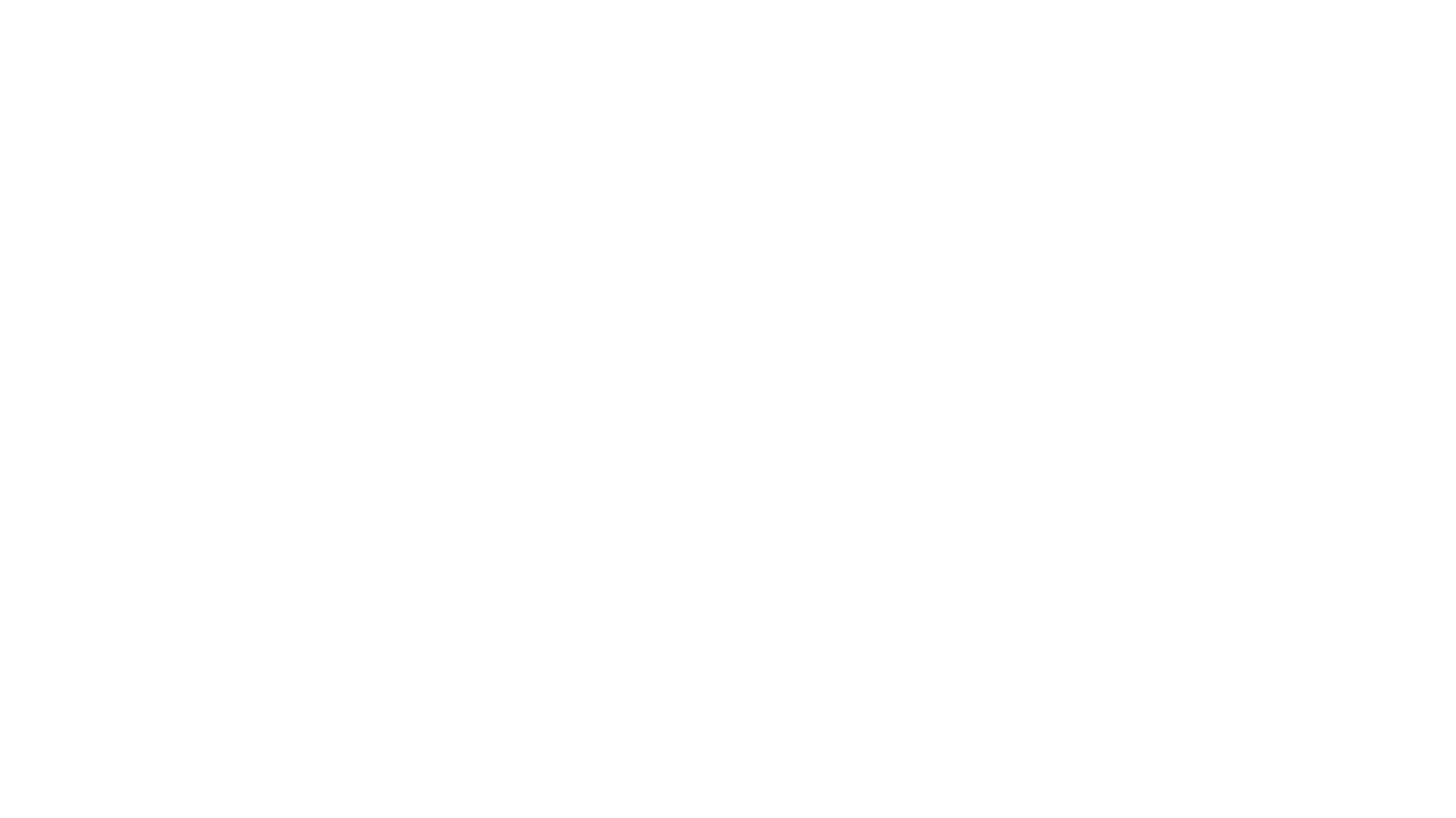| В полшаге от бездны Гюляра Садых-заде о «Вольном стрелке» Антона Федорова в Пермской опере 25 октября 2025 |
«Вольный стрелок» Вебера — первая премьера сезона, выпущенная в Пермском театре оперы и балета. Примечательна она по нескольким важным обстоятельствам. Первое: выбор названия удивительно своевременен. В XXI веке «Вольный стрелок» ставился на отечественной сцене всего дважды: в 2001 году оперу Вебера выпустил в Саратове Дмитрий Белов, ровно двадцать лет спустя, в 2021-м, в репертуаре столичного МАМТа появился спектакль Александра Тителя. Между тем, опера Вебера — важнейшая веха в истории музыки, императивно утвердившая в немецком, а затем и в общеевропейском культурном пространстве стилевые матрицы романтической волшебной оперы и главные смысловые и ценностные ориентиры немецкого романтизма: двоемирие, опора на национальный дух, национальный язык и мелос.
Дело, впрочем, не только в том, что опера Вебера для нас — бесспорный раритет. Актуальна и сама проблематика оперы; в «Стрелке», этой библии немецкого романтизма, предельно обнажена и обострена ключевая коллизия типично романтического сознания, довлеющего над нами и сегодня: извечная битва добра со злом за сердце человеческое — есть ли что-то важнее и актуальнее в нынешние апокалиптические времена?
В опере Вебера привычно текущая, обыденная жизнь — everyday life — покидает пределы профанного, возвышаясь до сакрального; все обретает окончательность, все предельно поляризуется — и каждый обязан сделать свой выбор. Именно об этом говорит с нами от лица своих героев «Вольный стрелок»: нерешительного, неуверенного в себе охотника Макса — типично романтического героя, разрывающегося между трудным, но нравственно безупречным выбором — и манящими тусклыми огоньками удачи, соблазном простого пути, сопряженного с пагубой души и падением в адовы пучины. Влиянию на Макса светлой беспорочной Агаты — идеальной романтической героини, осененной покровительством святого отшельника, противостоит власть зловещего и страшного в своей порочности, но отчасти и буффонного Каспара — приспешника адских сил, помощника лесного духа Самиэля.
Никого не обманет кажущаяся простота незатейливых, очаровательно наивных, псевдонародных песенных мелодий, лендлеров, бодрых охотничьих хоров, «золотых ходов» валторн и нарочитого тремолирования оркестра на звуках уменьшенного септаккорда в знаменитой сцене в Волчьем ущелье. Несмотря на плакатность персонажей и преувеличенность избранных оркестровых средств, острота главной коллизии — противостояние человека жуткой хтони, наплывающей на уютный бюргерский мир из темного, страшного леса, — ничуть не снижается, даже если в сценическом решении добавить толику карикатурности в обрисовку основных персонажей.
© Никита Чунтомов
За музыкальную составляющую постановки отвечал штатный дирижер Пермской оперы Петр Белякин; ему удалось передать силами оркестра экспрессию демонических сцен и цветущую мелодическую красоту сцен народных и бытовых. Дирижер сумел подчеркнуть достоинства солистов, задать нужный тонус игры музыкантам оркестра — достаточно воодушевленный, но контролируемый; проследить за точностью многочисленных соло, то и дело возникающих в партитуре Вебера. Хорош был и хор (хормейстер — Валерия Сафонова); хор подружек невесты, с его монотонно-скучливым ритмом и хороводом в полуприсядку вокруг главной героини, произвел совершенно завораживающее действие; мелодия его то и дело безотчетно всплывала в памяти еще долго после премьеры.
Тут самое время отметить прицельно точный выбор постановщика премьеры. Антон Федоров, модный режиссер, выпустивший немало удачных, нашумевших драматических спектаклей на сценах Москвы, Петербурга и Новосибирска — вспомним , пожалуй, его недавнюю «Утиную охоту» в БДТ, «Дон Кихота» в Театре Наций и спектакль «Е-ее-ее» по мотивам «Бременских музыкантов» в новосибирском «Старом доме» — впервые оказался на музыкальных подмостках. Его дебют в Перми в амплуа оперного режиссера и сценографа оказался более чем удачным; Федоров поиграл на разные лады с пресловутой, но оттого еще более чарующей условностью оперного театра и, кажется, сумел прочувствовать ее как благо и возможность. Режиссер, включившись в затейливую игру, придумал кучу всякой сценической всячины, насытив зрелище визуальностью, смехом, комикованием, гэгами, неожиданными поворотами в разговорных эпизодах — что, однако, вовсе не мешало зрителю постоянно ощущать эдакий холодок, которым так и тянет из бездны.
Это ощущение зыбкости, постоянно уплывающего из-под тебя пола, колеблющейся почвы реальности, создавало эффект почти головокружительный. Хтонь сочилась из всех дыр; проникала сквозь деревянные панели, которыми была обита студия звукозаписи; Федоров выдавал ее по чайной ложке, далеко не сразу. Потустороннее, иномирье поначалу задавалось в мерцающем режиме; как говорится, ничто не предвещало.
Условность жанра оттенялась разговорными сценами — как и предписано Вебером; в этом смысле «Стрелок» близок к жанру немецко-австрийского зингшпиля. Диалоги, переведенные Ольгой Федяниной, были усеяны там и сям придуманными Федоровым отсылками то к нынешним событиям, то поминались, ни к селу ни к городу, события Тридцатилетней войны и «Магдебургской свадьбы». Все диалоги произносились на чистом русском, музыкальные номера пелись, разумеется, на языке оригинала, на немецком. Впрочем, феномен двуязычия (и даже троязычия!) встречался на немецких оперных сценах еще во времена гамбургского «Театра на Гусином рынке», когда там работали молодые Гендель и Маттезон, а руководил тогда первым публичным немецким театром композитор Рейнхард Кайзер — так что сегодня полифония языков никого не смущает. Тем более что принцип двуязычия оправдывает и обосновывает основную идею спектакля: его события разворачиваются в студии звукозаписи, в которой хор и солисты записывают оперу Вебера «Вольный стрелок» — таковы, так сказать, исходные «предлагаемые обстоятельства» трактовки Федорова.
© Никита Чунтомов
Поэтому сцена поделена на два плана: на первом, ближнем, с самого начала в глаза лезет огромный пульт звукооператора, моргающий разноцветными огоньками; за ним, как за огромной клавиатурой, сидит звуковик с внешностью типичного стареющего рокера: седые немытые патлы, черная футболка с зловещим принтом Black Sabbath, потертые, видавшие виды джинсы, худое горбоносое лицо… Время от времени звуковик берет в руки электрогитару и извлекает из нее протяжные вибрирующие звуки, минорные запилы и диссонирующие аккорды. По заказу театра саундтрек к разговорным эпизодам написал петербургский композитор Олег Гудачев — так Пермская опера продолжила традиции «дополнять» оперные партитуры прошлого музыкой, созданной нашими современниками: в 2022 году Валерий Воронов обрамил прологом и эпилогом оперу Белы Бартока «Замок герцога Синяя борода», в 2023-м Владимир Горлинский вступил в диалог с «Человеческим голосом» Франсиса Пуленка.
Однако тактично и ненавязчиво подложить под разговорные сцены музыкальную основу — дело не такое уж простое. Гудачев составил лаконичный словарь гитарных риффов, которые может без труда сыграть непрофессиональный музыкант — каковым и был Тимофей Дроздов, приглашенный на роль звукооператора, но по ходу дела перевоплощавшийся в мрачного демона Самиэля, обитающего в зловещем лесу, «ловца душ» незадачливых охотников, готовых на все, ради удачного выстрела.
Пожалуй, самое интересное в пермском спектакле — наблюдать за тем, как воспринимает, объясняет и адаптирует к нынешнему мировосприятию ключевую для понимания самой природы немецкого романтизма оперу Вебера поколение сорокалетних: в большинстве своем — циники, прагматики и антиромантики. Понятно, что без романтического флера; понятно, что не без ироничного остранения. Но энергетика, излучаемая партитурой Вебера столь мощна, что в орбиту романтического мировидения втягивается даже самый прожженный скептик. И вот уже в спектакле Федорова демоническое, фантастическое и зловещее — лишь мерцающее поначалу — прорывается в полную силу. В сцене в Волчьем ущелье оскаленные волчьи морды сгрудятся над пылающей жаровней, где Каспар и Макс льют волшебные пули. Огненный профиль демона-звуковика Самиэля проступит на черной завесе, оглашая зал хриплым, похожим на вороний грай басом.
А начиналось все как бытовая, обыденная сценка: пока хористы беседуют, ожидая начала записи, в «предбанник» студии вваливается подвыпивший, расхристанный солист — Макс, ковыляет к дивану, то и дело прикладываясь к бутылке, но прячет ее при виде рассерженной Агаты. Та, попеременно с подругой Анхен, пытается привести незадачливого жениха в чувство — но тщетно. Партию Макса в первом составе вполне достойно спел и очень смешно и живо сыграл Борис Рудак — один из ведущих солистов Пермской оперы, поющий все ключевые партии от Хозе до Германа. Комическое в его образе доминировало; отлично был режиссерски обыгран и дуэт Макса с Каспаром–Гарри Агаджаняном. Во втором составе партию Макса пел приглашенный Давид Есаян; музыкально партия у него получилась весомее и звучнее, но актерски он явно проигрывал Рудаку.
Поначалу деление сценического пространства на два плана показалось не слишком удачной идеей; авансцена остается пуста, хор далековато задвинут и выстроен в ряд, первый массовый эпизод — с маршем, с танцующими лендлер пейзанами — театрально не обыгран, просто пропевается. Лес, важнейший смысловой фон оперы, дан у Федорова лишь намеком: из бокового окна видны стройные ряды деревьев. Фауна присутствует в виде чучел орла и оленя. Но лес будет наползать на сцену постепенно, пока не заполонит ее окончательно во второй картине «Вольного стрелка», когда Агата начнет свою знаменитую арию.
© Никита Чунтомов
В первый вечер центральную женскую партию прекрасным, нежным и ровным лирическим сопрано спела Алина Отяковская — можно лишь поздравить театр с такой солисткой. На втором спектакле Агату чуть более приземленно и экспрессивно, но тоже неплохо спела дебютантка Анна Щербакова. Анхен–Ирина Байкова, изящная, точная и резкая в движениях, с подвижным, легким сопрано — составила с подругой выпуклый визуальный и характеристический контраст. В интерпретации Байковой Анхен выступила сущей стервой; кажется, она вовсе не была рада счастью подруги, скорее уж завидовала ей: слишком насмешничала, слишком давила на нее, почему-то отняла розы, подаренные Агате отшельником — в спектакле Федорова он выведен ассистентом звукорежиссера (Александр Егоров).
Ария-сцена Агаты — сложная, разноплановая, каждая смена настроения знаменует начало нового раздела — была проведена Отяковской трогательно и искренне. Начиная с первой же фразы — недоуменного вопроса «Как сон подкрался ко мне, прежде чем я дождалась его?» (Wie nahte mir der Schlummer, Bevor ich ihn gesehn?), мечтательно медленную мелодию Leise,leise, fromme weise — к быстрому заключительному разделу, — ажитированному всплеску радости узнавания, в котором вновь появляется лейтмотив Агаты, впервые звучащий в оркестровом изложении в увертюре.
В этой сцене Агата остается одна; прижав к груди заветный букет белых роз — ее оберег — она обращается к луне. И в этот момент режиссер использует эффект зума: окно, за которым виднеются стройные стволы, стремительно приближается, лес словно вламывается внутрь, сметая стену дома. Впервые в спектакле осязаемо, грубо, зримо проступит образ, о котором Элиас Канетти писал в своем труде «Масса и власть»: «Войско — это не просто войско, это марширующий лес. Ни в одной стране чувство леса не сохранилось так, как в Германии: строгость и стройность деревьев, многочисленность и параллельность их стволов наполняют сердце немца глубокой тайной радостью».
Но очарование сцены резко нарушается; в волшебные девичьи мечты грубо вторгается реальность театра. За сценой голос помощника режиссера командует: «Опускаем луну… осторожно, не зашибите солистку… выпускаем сову» — и на фоне ночного неба, между морщинистых картонных стволов и светящегося шара луны, подвешенного на веревочках, пролетит мультяшная сова, неуклюже взмахивая крыльями. Тут Федоров в лоб применил брехтовский прием эпического театра — дистанцирование от происходящего на сцене, взламывание театральной условности, разрушение четвертой стены.
Через ночной лес пробирается Макс, озираясь, прячась за каждый ствол; страх его преувеличен, вид комичен донельзя: острое перо торчит на тулье охотничьей шляпы, за плечом — двустволка.
© Никита Чунтомов
Однако зло, притаившееся в лесу совсем не шутовское; оно настоящее. Именно это имел в виду Вебер, когда писал «Вольного стрелка» — и кажется, Федоров это понял; в его спектакле «совы не то, чем кажутся». В партитуре Вебера разверзаются нешуточные бездны; эта опера о том, что зло — тут рядом, буквально в полушаге. Оступишься, сделаешь неверный шаг — и ты пропал; полетишь в черноту, в адский мрак, где твою душу сожрут демоны.
Не понарошку, а по-настоящему, в спектакле Федорова, от сцены к сцене нарастает осознание романтического нарратива — и ощущение экзистенциального ужаса. И надо научиться жить с этим, ежесекундно рискуя оступиться.
Этот экзамен на прочность моральных императивов, на противостояние злу мы проходим каждый день. И несмотря на наивность сюжета — финал новеллы Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна, в которой герои погибают, либреттист Иоганн Фридрих Кинд переписал, соблюдя принцип lieto fin — этический пафос оперы Вебера особенно актуален для нас сегодня.
Федоров было попытался снизить пафос, обыграв комизм ходульных ситуаций, используя свой узнаваемый театральный язык: гэги, насмешки, комикование, гротеск. Но в процессе все герои выламываются из карикатурного абриса роли, вырастают в нечто большее — в символы чистоты, веры, романтического дуализма, греха. Поразителен, к примеру, в своей нутряной органике Гарри Агаджанян — типичный буффон, с немного обиженным, порой комически испуганным выражением лица; но даже его персонаж порой выглядит почти трогательно, а в сцене смерти, когда Каспар, подстреленный седьмой волшебной пулей Макса, постепенно вытягивает из кармашка рубахи алый платочек, трепещущий под руками, как ручеек крови — его даже становится немного жаль.
Так неведомый ужас, древнее невыразимое зло, просачивается в уютную бюргерскую гостиную и жизнь простодушных пейзан; оно таится в лесу, подстерегает за калиткой, оно ненасытно, не дремлет и готово пожрать каждого, кто польстится на его посулы. В этом смысле Макс — первый по-настоящему романтический оперный герой, рефлексирующий, слабый, но честный, сердце которого становится ареной борьбы добра со злом. История его соблазна — сюжет типично фаустианский. Проблема в том, что современный человек склонен не замечать, отметать, стоя на рационалистических позициях, это онтологическое противостояние. Между тем в наши дни силы зла окрепли и властвуют безраздельно — и не только в сумрачном немецком лесу.
Текст: Гюляра Садых-заде
Заглавная иллюстрация: © Никита Чунтомов
Заглавная иллюстрация: © Никита Чунтомов
Читайте также: