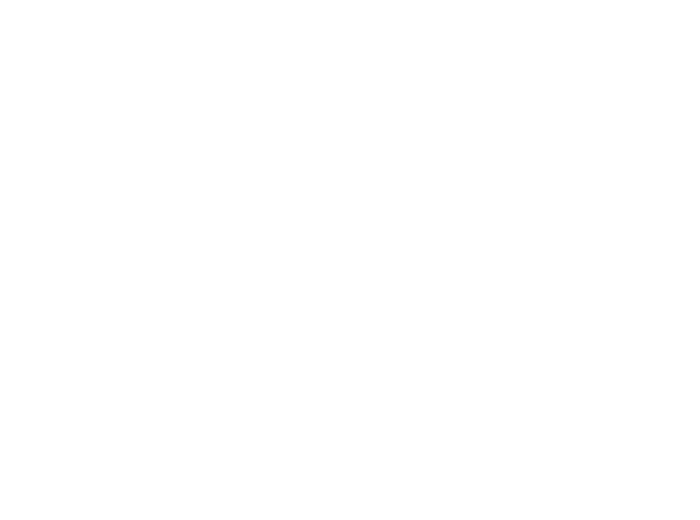В десятку Юлия Бедерова о «Волшебном стрелке» Дмитрия Чернякова в Мюнхене 27 февраля 2021 |
«Волшебный стрелок» Карла Марии фон Вебера — икона немецкого оперного романтизма — вышел в Баварской опере в карантинном формате, без публики, но в онлайн-трансляции. Если бы в зале были люди, по смешкам, всхлипываниям или интонациям молчания, а, возможно, и по встречным актерским реакциям, можно было бы проверить впечатления. А пока дух иссиня-черной комедии пронизывает представление, сделанное без шуток, с беспросветной, уничтожающей серьезностью холодной схемы. Такими страшными трагедиями с оттенком мрачной иронии, бывает, предстают в версиях Чернякова эмблематические оперные партитуры, в особенности — волшебные национальные сказки.
Черняков снова проделывает с публикой фокус, от которого кровь стынет в жилах. Пугающая история с приметами современности, собранная будто игрушечный конструктор из центральных элементов и запчастей регулярной режиссерской методологии, в которой почти все нити связаны, большая часть деталей подогнаны, вытягивается, выращивается прямо из текста оригинала и производит впечатление, сродни оригинальному.
Как особенно чуткое романтическое сознание видело современников Вебера среди жутких призраков, теней и духов, в неверном мареве двойничества, фаустианства, дьявольщины, проклятий и трагического, предательского безумия, так через 200 лет после премьеры мы рискуем обнаружить себя в мире, где вольные стрелки разгуливают вдоль и поперек чаще, чем хотелось бы надеяться. Иными словами, нас снова охватывает ужас от столкновения лицом к лицу со Злом, его природой и воздействием.
© Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper
Черняков строит собственное повествование со всей сугубой верностью Веберу — но, как всегда в подобных случаях, даже частичный пересказ рискует оказаться спойлером. В случае со «Стрелком» пришлось бы прямо начать со спойлера, им продолжить — и еще двумя закончить. Так что не станем этого делать, ограничимся увертюрой, профайлами героев — их видео-портретами с краткими характеристиками, возникающими над сценой во время вступления к опере — и текстом самого Вебера.
Шум леса — бывшая арена действия немецкого романтизма — у Чернякова превращается в тихий корпоративный морок офисного пространства из стекла и дерева на некоем -дцатом этаже. Лесные очертания веберовского оркестрового гобелена с охотниками превращены в чуть деформированные контуры закрытого офиса по принципу «органической искусственности». Куно — не главный егерь, но «авторитарный глава корпорации», как аттестуют героя титры. Агата — его самостоятельная дочка. Анхен — подружка и сотрудница. Каспар — замглавы и первый претендент. Макс — «амбициозный» служащий, второй претендент на руку дочки и кресло начальника. Дальше достаточно просто проговорить про себя веберовские вводные: чтобы получить место и дочь Куно Макс должен выдержать испытание и сделать меткий выстрел — и все станет понятно и до оторопи ужасно. Призраки не у дел. История в спектакле точно следует драматургии оперы и, в сущности, почти что ничего не переиначивает даже в финале: Макс раскаивается в своей слабости, он прощен, он получает отсрочку и через год может сделать новую попытку, новый выстрел и снова претендовать на руку и на стул. Темный кошмар повтора, замкнутого круга, беспросветного насилия социума, держащегося на желании человека быть его частью, скорее на соблазнении, чем на принуждении, охватывает героя вместе со зрителем, причем к состраданию примешивается отвращение, и ничего с этим не поделать.

© Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper
Возможно, сам Вебер чуть иначе распределил акценты в этой смеси, но в целом драматургия мюнхенского «Стрелка» ничего чуждого, постороннего, конфронтационного в оперную сказку не вкладывает. Даже традиционно планомерное, беззастенчивое черняковские уничтожение любых примет религиозной мистики и фольклорного волшебства в спектакле лишь совсем немного корректирует, детализирует веберовские пропорции нечеловеческих чудес и человечной прозы. В сущности, в «Волшебном стрелке» не так уж много по-настоящему волшебного — такого, что с трудом бралось бы инструментальным волшебством театра. Это не Вагнер, требующий, чтобы на сцене в воздухе зависало копье. Здесь волшебством занята, в основном партитура, остальное — видения, сны, ожидания, страхи, а роль дьявола Самьеля и вовсе разговорная. Чем Черняков и пользуется — ибо странно было бы не воспользоваться тем, что как будто само идет руки. Поэтому Каспар и Самьель в спектакле — одно и то же лицо не только и не столько в нарративном, сколько, кажется, изначально именно в музыкальном смысле.
Здесь все, как водится, выращено из черняковского слышания оперной формы, самой музыкальной материи, ее пропорций, плотности и устройства. Дуэт Каспара и Самьеля, разворачивающийся в бурную сцену с оркестровой бурей, подсчетом пуль и пробирающего страха, ансамблевые сцены, хор с венками и выходящими вперед, читающими по бумажке тетками, трио Макса-Анхен-Агаты, где каждый — третий лишний, напоминающее ансамбли черняковскго «Дон Жуана», пляска Макса под звуки лендлера (еще один эпизод-кровный родственник моцартовского спектакля, на этот раз — брат-блищнец серенады главного героя) — все точно вычерчено режиссером по музыкальной выкройке. Даже гипертрофиронные, зависающие над сценой и ямой леденящие паузы между музыкальными номерами и разговорными диалогами и отдельная партитурная строчка для хохота и рыданий, раздающихся поверх пения и оркестра (истовых, искренних, притворных, вокально изменчивых по тембру и интонации) нисколько этому не противоречат — напротив, усугубляют музыкальную ситуацию.

© Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper
Идею формального изящества, пугающей внятности и жутковатой красоты партитуры, в которой простодушное крепко смешано с изысканным, поддерживает дирижерская рука Антонелло Манакорды. Оркестр с фольклорно-магическими натуральными валторнами, баланс и его движение звучат через экран подчеркнуто корректно, с любопытством и чувством партнерской верности — сценическому и веберовскому драматургическим рисункам.
И вокальные, актерские партии разворачиваются, кажется, в соответствии как с режиссерским умыслом, так и с композиторским замыслом. При этом видно, как Черняков сочиняет спектакль из исполнительской индивидуальности певцов: морозный голос и моцартианская рафинированность Анхен (Анна Прохазка), теплая, безальтернативная в своем безысходном совершенстве Агата (Голда Шульц), компания ладных, вокально изобретальных басов во главе с Балинтом Сабо (Куно, не то наследник, не то прототип моцартовского Командора из спектакля Чернякова). Но главная актерски и вокально виртуозная пара — Павел Чернох (Макс, в образе и голосе которого проглядывают черты доведенного до крайности Дона Оттавио) и Кайл Кетелсен (Каспар, словно выросший до адских размеров Лепорелло, которого американский бас-баритон, собственно, и пел в черняковском «Дон Жуане») — заставляет усомниться в том, что можно в точности угадать на кого именно из них ставился спектакль. Возможно, все же, на обоих.
Следуя за актерской персональностью, за Вебером и в продолжение собственных спектаклей (от «Дон Жуана» до «Трубадура»), Черняков в «Стрелке» снова выкраивает театр скептической интерпретации, с одной стороны — убийственной для реноме эмблематической национальной волшебной сказки (как это было сделано в «Снегурочке» и, в особенности, в «Руслане»). С другой стороны, под действием железобетонной театральной прозы на месте хорошо прочищенного скепсисом канона снова возникает призрак музыкальной поэзии и ее современности — неутешительный и пугающий.
Текст: Юлия Бедерова
Заглавная иллюстрация: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper
Заглавная иллюстрация: © Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper
Читайте также: