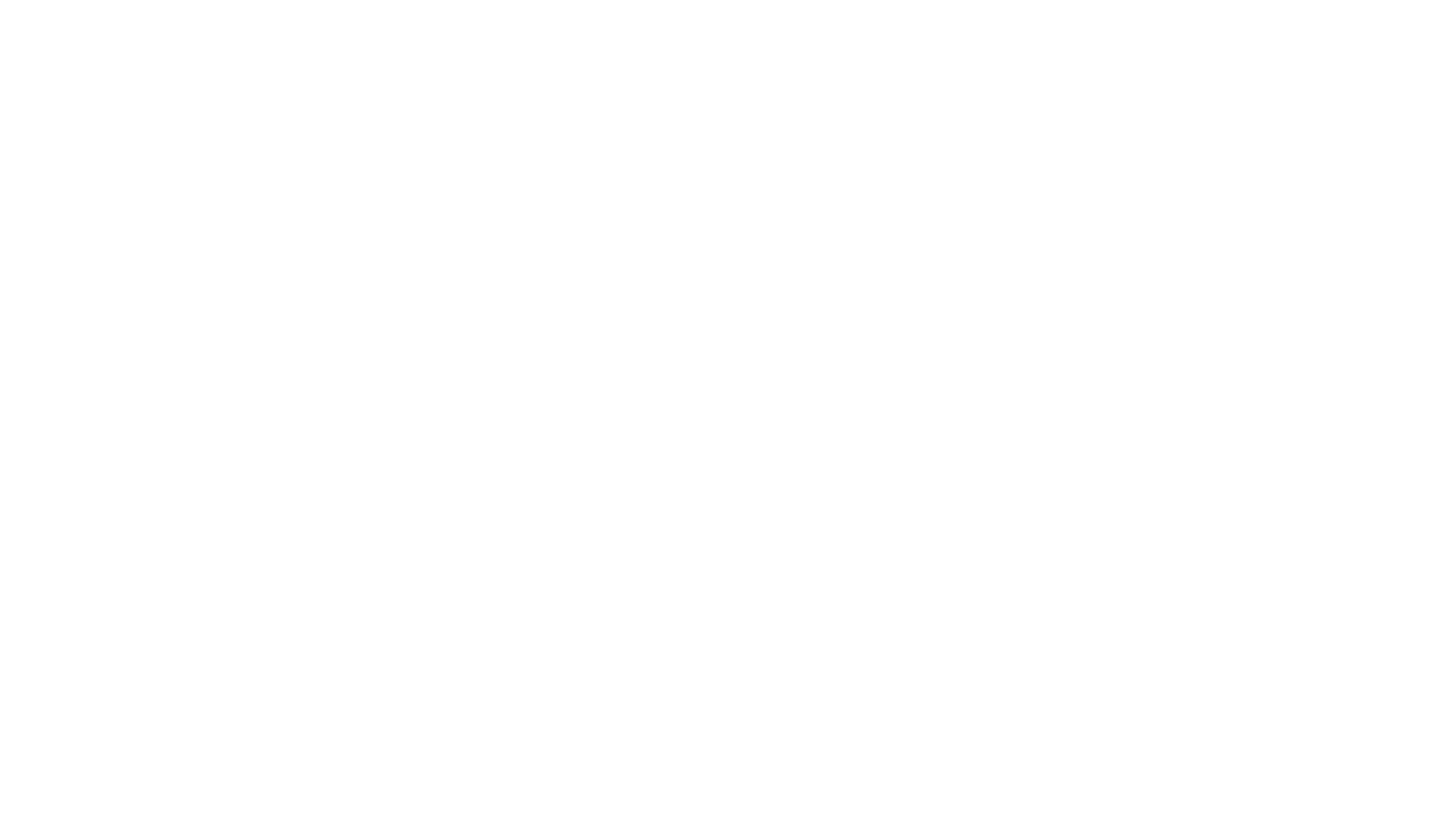Банальность банальности зла Алексей Гусев о «Зоне интересов» Джонатана Глейзера 9 марта 2024 |
Мужа собираются повысить в должности. Но этому не рад ни он сам, ни его жена: они только успели обжиться своей большой семьей на нынешнем месте, вдали от больших городов, у реки, на лоне природы. Здесь и детям их хорошо (а их в семье пятеро), и жена хлопочет по саду, который вышел на загляденье, скоро должны еще и саженцы деревьев пойти в рост. Но ничего не поделаешь, никакие прошения не помогают, и супруги, после недолгой размолвки, принимают трудное решение: он переедет на новое место работы, но попросит начальство, у которого он на хорошем счету, оставить здешний обжитый дом за своей семьей. Ну, будут созваниваться, значит. Тем более, что и повышение, как ни крути, лестное, и с начальством особо не заупрямишься. Потому что — а муж у нас кто? Рудольф Хесс. Комендант Освенцима и главный герой фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов».
О том, сколь домовиты и рачительны были супруги Хессы, написано немало, в образцовости их семейного уклада принято видеть едва ли не более, в буквальном смысле слова, умопомрачительную иллюстрацию к тезису Арендт о «банальности зла», нежели в невзрачной личности Эйхмана, — так что однажды такой фильм, как у Глейзера, просто неизбежно должен был быть снят. О тех, кто тихо и неустанно вел дом, растил детей, ходил на рыбалку, пек штрудели и сажал клематисы, пока за стеной, отделявшей сад фрау Хесс от подведомственной ее мужу территории, пылали печи и веяло пеплом. И основной прием, который лег в основу «Зоны интересов», пожалуй, был тоже предрешен: никаких бараков, никаких узников в полосатых робах, никаких виселиц — только семейный уклад, только аккуратные садовые дорожки, воскресные пикники и уютные спальни. Разве что доносящиеся по временам из-за стены крики да адское свечение труб крематория по ночам создают для этого нарядного домашнего уюта несколько досадный фон. Ну, еще жена в минуту раздражения грозит своей служанке не увольнением, а сожжением; ну, один из сыновей ночью перебирает не цветные стеклянные шарики, а чьи-то зубы; ну, садовник, вскапывая и удобряя грядку, обильно посыпает ее пеплом, которого в этом хозяйстве всегда в достатке. И еще теща, приехав пожить у любимой дочери да понянчиться с внуками, ночью смотрит в окно на дымящую трубу — и наутро, никому слова не сказав, уезжает восвояси… Но разве все это не сущие мелочи для образцово-благополучной немецкой семьи? Такая уж у мужа работа. Сложная, ответственная. И камера все эти мелочи, конечно, подмечает. Крики, зубы, пепел. Потому что, видите ли, у нее, у кинокамеры Джонатана Глейзера, тоже — такая уж работа.
© A24
И со всем, что касается проведения этого основного приема, Глейзер справляется почти безупречно. Вот, в самом начале фильма, дети делают отцу сюрприз — дарят на день рождения лодку; он ее осматривает, восхищается, следует перемена точки зрения — и на заднем плане обнаруживается концлагерная вышка. Вот, чуть погодя, служанка наливает рюмку шнапса, — полную, по краешек, — и чрезвычайно бережно несет ее через весь дом: настолько бережно, что о цене любой невзначай пролитой ею капли догадаться несложно. А вот, в разгар той самой размолвки, жена идет по коридору вслед за мужем, и там, прислонившись к стене, стоит другая служанка, — и жена даже не думает понизить голос или чуть переждать с упреками: так при господских ссорах не принимают во внимание не прислугу, но рабов. Рядом с такой тонкостью и четкостью режиссерского расчета даже самые грубые ошибки (вроде произвольно меняющего по ходу фильма свое назначение верхнего ракурса) если и не становятся простительными, то, по меньшей мере, не перевешивают главного. А «главное» здесь работает наотмашь.
Да и как иначе? В конце концов, будничное бытование семейства Хессов — один из самых шокирующих феноменов за всю историю XX столетия. Берясь за такой материал, его, как ни цинично это может прозвучать, достаточно всего-навсего не испортить. Базовой режиссерской грамотности и мало-мальской человеческой чуткости для этого должно хватить с лихвой. Тем более, что, пожалуй, едва ли не все, что происходило важного с киноязыком за последние 60–70 лет, логически и исторически коренилось в опыте Второй мировой, в первую очередь — в опыте Холокоста, точнее — в необходимости этот опыт хоть как-то освоить. И если режиссер хоть немного сведущ в природе тех языковых инструментов, которые он использует, они неизбежно «срезонируют» с материалом, некогда понудившим их возникнуть. Глейзер же, судя по всему, сведущ. Минимализм мизансцен, бесстрастный прагматизм монтажа, нейтральность ракурсов, стертость актерского существования, — все эти средства, лежащие в основе современного фестивального академизма и используемые Глейзером в довольно чистом виде, как раз и являются, на расстоянии четырех-пяти поколений, наследниками той рефлексии, к которой в послевоенные годы Холокост понудил киноязык. И ни упомянутая беспорядочная броскость верхних ракурсов, ни утяжеление нарратива сценами в негативном изображении (на весьма смутных основаниях) это родство не способны ни пресечь, ни даже ослабить.
И, однако, именно в этом пункте, — казалось бы, надежнее некуда, — Джонатан Глейзер попадает впросак.
© A24
Потому что все его минималистские средства — методичность, нейтральность, отстраненность и так далее — разрабатывались поколениями режиссеров, от Алена Рене до Сергея Лозницы, чтобы смочь рассказать о том, смысл чего принципиально неартикулируем. Любая попытка ввести происходившее в Освенциме в границы доступного человеческому пониманию автоматически оборачивается обесцениванием происходившего, — что особенно опасно, учитывая, что обесценивание было одним из основных инструментов нацистских палачей. Любая попытка «вместить», как бы благородна и возвышенна она ни была (вроде «Списка Шиндлера»), мгновенно оборачивается подлогом; там, за рядами колючей проволоки, была явлена та мера бесчеловечности, понимание которой находится вне человеческих пределов. Минимализм, средствами которого пользуется Глейзер, есть единственный, по-видимому, способ констатировать эту невозможность описания. Нельзя описать то, что происходило в лагере. В бараках. В «душевых». На плацу. Нельзя описать произошедшее с жертвами.
Но с палачами-то — можно.
Зло — всего лишь банально. Сколько бы ни было критиков у хрестоматийной концепции Арендт, — Глейзер, живописуя уклад Хессов, явно придерживается именно ее. Здесь банальны коллизии, диалоги, радости, тревоги, жесты, мимика, обстановка, — то есть, собственно, все, кроме происходящего по ту лагерной стены, — того, что так и останется непоказанным. И этот ход — сам по себе — безошибочен и разящ. Вот только из него следует, что стиль Глейзера тоже остается — по ту сторону. А по эту, где клематис и песики, он не просто неоправдан — неуместен. Эта жизнь, жизнь этих персонажей не распадается на части, не зияет провалами, она ладно сбита и уютно устроена, в ней нет внутренних трещин, нет зон умолчания, — в этом-то и суть кошмара: они обыденны и будничны, эти Хессы, для них городок под названием Аушвиц — лишь место службы отца семейства, и он несет эту службу столь же исправно и усердно, как нес бы любую другую. Всякий раз, как Глейзер пытается обнаружить хоть какое-то влияние происходящего по ту сторону стены на жизнь своих героев, он тут же становится риторичен и неубедителен. Хесс выговаривает подчиненным, что те ломают кусты сирени («сирень истекает кровью», патетически возглашает он с типично бюргерским поэтическим чутьем), Хесс прощается с любимой лошадью, Хесс тетешкается со случайно встреченной на улице собачкой, — полноте, в этом заевшем режиссерском приеме сантимента не меньше, чем в самом Хессе. Двое сыновей играют в саду, и один запирает другого в теплице, а сам довольно усаживается снаружи, пока тот внутри просит его выпустить; неприятная сцена, что и говорить, но точно ли естественную и извечную, увы, жестокость детских игр стоит вписывать в счет преступлений национал-социализма?..
© A24
К уроку Ханны Арендт о банальности зла необязательно относиться с полным доверием; возможно, устройство Эйхмана или Хесса не сводится к слепому и скучному исполнению протокола, возведенному нацистским режимом в высший моральный принцип, начисто разъедающий функционера изнутри. Возможно, их внутреннее зло отнюдь не банально, а, напротив, столь же непостижимо и непроницаемо, как и то зло, которое они учинили. И тогда глейзеровский минимализм, вероятно, как раз оказался бы уместным. И констатировал бы внутреннюю разорванность смысловых, человеческих и всех прочих связей в том мирке, который прикидывался нарядным цветником фрау Хесс. Коротко говоря, режиссер — как всегда — имеет право на любой подход и любую трактовку. Возможно, зло банально; возможно, зло непостижимо. Но не одновременно же.
Последние минуты фильма Глейзера, однако, почти способны оправдать все эти нестыковки. В опустевшем здании, под вечер, Хесс спускается по лестнице, как вдруг его начинает тошнить. Раз, другой, третий. И внезапно режиссер, без каких-либо объяснений и мотивировок, дает современную съемку из мемориального музея в Освенциме. Приходят уборщицы. Подметают полы. Протирают заслонки печей в крематории. Моют стекла витрин, за которыми — вещи сгинувших жертв. И это, пожалуй, самый кошмарный, самый невыносимый эпизод в фильме. Потому что методичность их действий неотличима от той, которую весь фильм осуществляла в своем доме фрау Хесс. Ordnung современного музейного быта — точная копия того, которому был так предан местный комендант. За последние годы до этой, запредельной степени двусмысленности доходил разве что Лозница в своем «Аустерлице». Но тут эпизод заканчивается, мы вновь на лестнице с Хессом, перед которым, по-видимому, не то видéнием, не то предчувствием все это и промелькнуло. Он ошарашен, даже несколько напуган. И спешит уйти. Наверное, потому-де, что рейх, которому он верно служит, падет, а дело его рук станет назиданием потомкам. Однако экранный-то эпизод рассказал о другом. И коменданту Хессу, если бы он его увидел, скорее уж впору было бы порадоваться. Эти за сиренью точно проследят.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © A24
Заглавная иллюстрация: © A24
Читайте также: