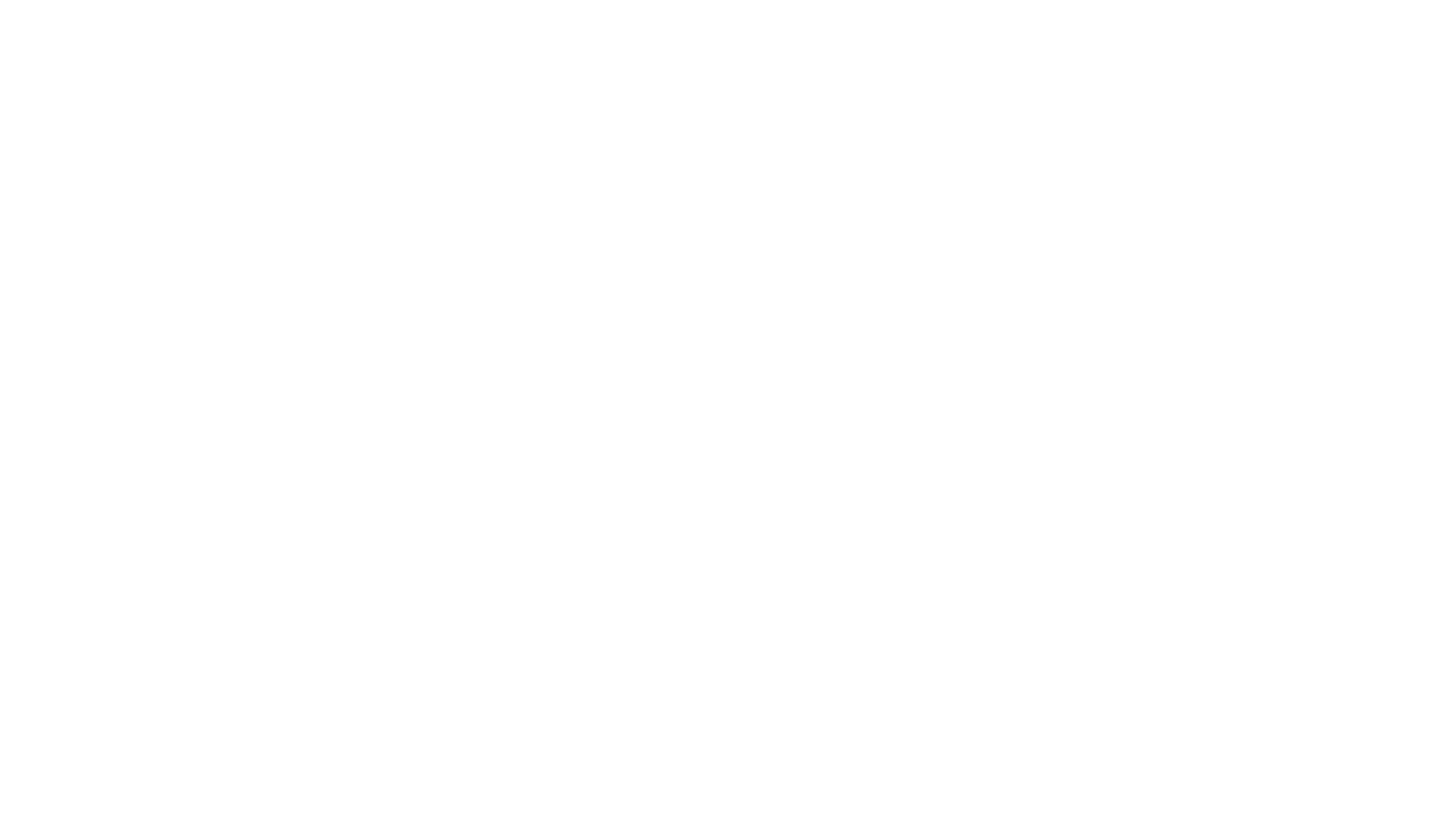| Post Mortem Алексей Гусев о «Дракуле» Люка Бессона 28 сентября 2025 |
Смена эпох редко приходится на круглые даты; у Клио свой, не десятиричный счет. И говоря, например, о «тридцатых» или «шестидесятых», мы всякий раз помним: первые закончились осенью 1939-го, вторые — летом 1968-го, — и уточняем: «не календарные — настоящие». Но, не иначе как по чудесному совпадению, нынешнее столетие началось точно по расписанию. И, как это обычно бывает, в будущее взяли не всех. Многих из тех кинематографистов, что еще в конце девяностых числились «определяющими» и «выразителями», в начале двухтысячных словно бы вынесло на обочину, а то и вовсе в кювет. И дело вовсе не в капризной моде, которая однажды отворачивается от большого художника, и его все такие же прекрасные шедевры отчего-то оказываются никому не нужны; нет, у киноискусства свои, очень специфические и очень тесные связи с историческим процессом, и утратить связь со временем здесь очень часто означает попросту утратить талант. Пропадает резонанс между временем как материалом и авторской оптикой. Вот, скажем, Дарио Ардженто или Оливер Стоун в 1990-е — режиссеры, без преувеличения, великие, в 2000-е же — внезапно, вдруг, враз — стыдно смотреть. Остались в XX веке; не взяли их в будущее.
И Люка Бессона — тоже не взяли.
В отличие от тех двоих, впрочем, у Бессона шансов на величие не было приметно никогда, — ни во вдохновенной «Последней битве», ни в лиричнейшей «Голубой бездне». Но и дутой его слава не была. В его иронии был задор, в его трюках — азарт, в его Жане Рено — нюх, а фирменный монтажный бит, который он наладил еще в «Подземке», хоть и ощутимо тупел от фильма к фильму, не успел до конца выхолоститься вплоть до самого «Пятого элемента» (пожалуй, включительно). Не Каракс, конечно, и не Жене (для этих двоих, кстати сказать, смена столетий тоже прошла ох как не бесследно), — но был, был такой режиссер по фамилии Бессон, и ирония над ним была всего лишь столь же органична той удаленькой эпохе, что и его собственная… А потом такого режиссера не стало. И вот уже четверть века как нет. Несмотря на все фильмы, которые он за это время снял. И особенно — смотря на все эти фильмы.
© Shanna Besson
Высмеивать их в рецензиях, будь то по частям или вкупе, — хлеб легкий и дешевый, а потому постыдный. Как это нередко случается с режиссерами, утрачивающими талант, Бессон настолько надежно перешел в регистр полной невменяемости (говоря эстетически — «автопародии»), что добавлять что-либо к его фильмам — только портить. Кому эта сентенция представляется хамской — поглядите на монтаж бальных сцен в «Дракуле», для которых оптимальный режим просмотра — тереть кулачками изумленные глаза. И да, в случае с нынешним «Дракулой» все оказалось еще более очевидно, чем обычно, по причине, от Бессона совсем не зависящей: из-за недавнего «Носферату» Эггерса. Дело не в том, что один фильм, мол, «лучше» другого (так вопрос вообще никогда нельзя ставить) или, например, что Эггерс, возможно, гений, а Бессон уж точно нет. Просто фильм Эггерса, хорош он или плох, точно снят именно в том году, который проставлен в конце его титров, и его взгляд на самые основные категории (что такое спецэффекты, что такое снег, что такое секс, что такое ракурс) укоренен именно в том самом году и о нем свидетельствует (даже, пожалуй, «дает показания»). А фильм Бессона, вопреки году в титрах, снят примерно в 1999-ом. Это те ритмы, те жесты, то движение камеры. И даже превосходная актерская работа (словосочетание, которое едва ли не впервые вообще можно употребить по отношению к кинематографу Бессона) Калеба Лэндри Джонса, артиста беспримесно нынешнего, ничего здесь, увы, не меняет: режиссерский почерк автора настолько одеревенел, стал настолько бесчувственным по отношению к материалу, что неспособен сколько-нибудь откликнуться на ту мимику и ту энергию, которую транслирует актер. «Дракуле» Бессона не повезло выйти через несколько месяцев после «Носферату» Эггерса не потому, что первый хуже второго, — а потому, что первый рядом со вторым смехотворен.
Но именно здесь и кроется сюжет, из-за которого «Дракула» вообще стоит разговора, пусть и недолгого. И заключается он в том, что этот фильм Бессона — как обычно, пустой, фальшивый и жеманный, — вероятно, лучшее, что было им снято в нынешнем столетии. Не потому, что в нем внезапно появились какие-то достоинства. А потому, что его недостатки внезапно стали содержательны. Люк Бессон отстал от времени настолько, что труп его кинематографа стал материалом для его кинематографа; он застрял в конце XX века, как граф Дракула — в конце XV-го. Коротко говоря, фильм «Дракула» похож на своего героя, и от него несет мертвечиной сразу по двум причинам — которые не всегда можно различить.
Впрочем, точно ли именно в конце XX века застрял Бессон? То время, когда он появился, было отмечено глубоким кризисом классической кинопоэтики; образы казались исчерпанными, создающий их киноязык — отмирающим. И Бессон тогда «подкупил» (и лет десять подкупал) критиков и зрителей тем, что почти полностью (не считая разве что той самой «Голубой бездны») отказался от претензий на образность и утомительную «эстетическую значимость», словно бы возвращая кинематограф к его аттракционным, сугубо развлекательным, доязыковым истокам. Он, конечно, был такой не один, и стратегия его была отнюдь не из самых сложных, — но в самой инфантильности его ходов тогда и впрямь было что-то не понарошку детское, лихое и опрометчивое, как хаер Изабель Аджани из «Подземки». С годами детскость выветрилась, инфантильность же усугубилась до неприличных степеней. И тут Бессон ставит «Дракулу». И посреди экранного действия, — не только картонного, но и изрядно жеванного, — вдруг возникает эпизод с Парижской Выставкой.
© Shanna Besson
Эпизод этот, собственно говоря, фильму не нужен. Граф Дракула и его верная протеже завлекают главную героиню в некий парк аттракционов, который в фильме гордо именуется Парижской Выставкой, на деле же представляет собой стандартный набор дешевых ярмарочных развлечений: бородатая женщина, сиамские близнецы, лабиринт с призраками. Фабульной пользы от этого эпизода чуть, драматургической и того меньше, — а эпизод все длится, а герои все ходят, и осматривают, и смеются, — а камера Бессона видит даже и больше их, например, обнаруживая в соседних кадрах всяких потешных паяцев, — и внезапно, на несколько минут экранного времени, обретает свободу — ту чудесную свободу от нужд повествования, которая в кино всегда обеспечивает возможность сотворения чего-то большего, нежели частная история, — сотворения экранного мира как такового. Нет-нет, даже этот эпизод все еще не может претендовать ни на какую художественную ценность, и как распорядиться этим вдруг повеявшим на экране духом свободы, Бессон не знает вовсе. Но ведь повеял. И именно здесь — в парижском парке развлечений конца XIX века, как бы эскизно и стереотипно он ни был задан. Собственно, в этом эскизе настоятельно не хватает еще одного штриха, одной ярмарочной палатки, одного развлечения. Синематографа. Он как раз тогда и как раз там появился — в балаганных лабиринтах конца XIX столетия, промеж бородатых женщин и сиамских близнецов. Он где-то там, где бродят, веселясь, трое героев фильма. И пусть камера Бессона его так и не обнаруживает. Но ей, впервые за долгие годы, вдруг становится легко.
Бессон тут, конечно, не оригинален (даже если бы не был так небрежен); из фильмов последних 25 лет, где балаганы былых времен предъявлены в виде портала в затерянный мир воображения-как-подлинности, можно было бы составить чудесную ретроспективу (во главе, вероятно, с недооцененным «Одиноким рейнджером» Гора Вербински). И немудрено: заданный в конце XX века курс на кинематограф как ярмарочный аттракцион в нынешнем столетии стал магистральным, пусть и был щедро загримирован новейшими технологическими блестками. Тем показательнее он проявляется здесь, в очередном неловком фильме пожилого ловкача, где главный герой безнадежно заплутал во времени, когда-то слетев в могильный кювет на вираже. И бродит теперь, наращивая слой за слоем, словно годичными кольцами, мертвенно-белесый грим — не то вампира, не то паяца, за которым уже давно нет ничего живого. И хоронит — век за веком, фильм за фильмом, год за годом — своих мертвецов, обращая все живое в трюк, в гэг, в бит.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Shanna Besson
Заглавная иллюстрация: © Shanna Besson
Читайте также: