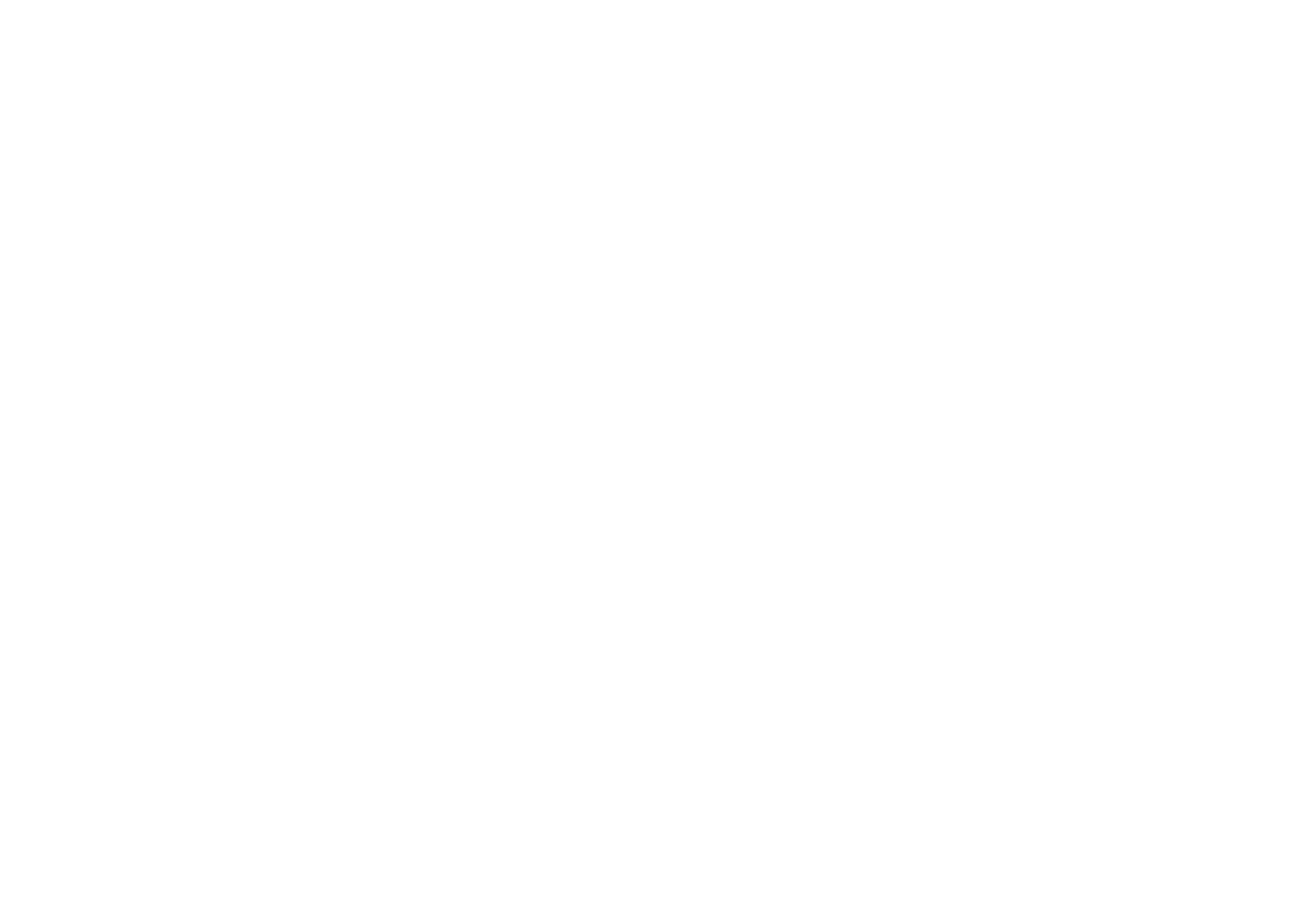| How she dares Алексей Гусев о «Гадкой сестре» Эмилии Бликфельдт 29 июня 2025 |
Дебюту прилично быть дерзким. Если и не диким, так хоть диковинным. Правил тут, конечно, нет, и история кино, особенно давнего, знает немало случаев, когда будущий мэтр обрел голос и оказался заметен лишь фильму эдак к пятнадцатому. Но быть скромным в юные года — как ни странно, особый талант; нормальнее распахивать дверь в профессию «с ноги» — будь то «Стачкой», «Гражданином Кейном», «Ивановым детством», «Одиноким голосом человека» или «Бешеными псами». «Пришел и говорю». Умеренность и аккуратность — качества наживные, с ними успеется; дебют может позволить себе нахрап и смятение. Молодость обычно неприятна, но нет ничего хуже молодости, которая пытается быть приятной. Не беда, если дебют вызовет смущение и брюзжание у таких, как я, — так нам и надо. Нет, правда: нам так — надо. Год за годом проявлять снисхождение к робким старательным прописям куда как утомительно. Не нужно непременно шедевра, не нужно даже непременно «яркой индивидуальности», — она тоже обычно проявляется чуть позже, с обретением навыка. Нужна густота зрения, шалая и бесстыдная, и желание делания, и росчерки за (еще) неимением почерка, и усердие — не клерка, но любовника. И ничто из этого, увы, не гарантия тому, что «дальше будет еще лучше» — или хотя бы так же; пресловутая «проблема второго фильма» — орешек покрепче «проблемы дебюта». Но хотя бы первая нота будет взята во весь голос, не кривя и не дрожа душой. Как это было в «Стачке», «Кейне» или «Бешеных псах».
Или вот как сейчас — в «Гадкой сестре».
О, в дебюте норвежки Эмилии Бликфельдт очень даже есть к чему придраться. Подбираться к сюжету о старшей, злой сводной сестре Золушки, — о том, как она попала на бал и чем для нее это обернулось, — Бликфельдт начала еще несколько лет назад, в дипломной короткометражке, и, как это часто бывает с долго вынашиваемыми замыслами, все, что она с тех пор видела, понимала и даже, вероятно, проживала, — все «шло в копилку», все обогащало исходный замысел новыми сюжетными ходами и стилистическими фигурами. А потому в «Гадкой сестре» несложно обнаружить самый родовой, самый нормальный дефект дебюта — стремление автора во что бы то ни стало уместить (чтобы не сказать «впихнуть») в него все, ради чего вообще она когда-то пошла в режиссуру. Этот дефект становится особенно роковым, когда у автора «получается»; у Бликфельдт же получается многое. Поэтому — все заветное, все эффектное, все работает, и ни от чего, решительно ни от чего невозможно отказаться. А стоило бы.
© Иноекино
Попросту говоря, «Гадкой сестре» более всего недостает редактора. Того, который указывал бы на нехватку сюжетных мотивировок: с чего, например, средняя сестра, которая в начале фильма была придурочнее некуда, к концу обернулась оплотом здравомыслия и чуткости? Того, который заставлял бы из двух равно эффективных версий разработки оставить лишь одну, а не пытаться поперек любой логики совместить обе, — как в сцене бала, где главная героиня попеременно предстает то гостьей-аристократкой, то солисткой-институткой, механически переключая регистры обольщения. Того, который — если бы он оказался совсем уж хорош — понуждал бы пожертвовать (да-да, «скрепя сердце») броскими, но разовыми и не встроенными, да и не встраиваемыми в общую логику художественного решения приемами, — вроде джамп-ката на появлении «злой феи» или верхних точек съемки в сцене бального перформанса. Того, короче, который выправил бы внутренний баланс фильма, — не из соображений «хорошего тона» или «потому что так принято», а ради более слаженной работы всех его элементов. Не чтобы благородней тускнело, а чтобы насыщенней сияло.
Однако в том-то и дело: все эти огрехи, помарки, обрывы и прочие ферменты разлада, которые так правильно было бы подчистить и выправить, — суть приметы не только (и даже не столько) неопытности автора, но подлинной сложности решаемых ею задач. Ах, как во многих современных фильмах, особенно среди дебютов, такой разлад порожден тем, что задачи мнимы, что ошибка кроется в самой их постановке, — что авторы, образно говоря, пытаются доказать, что дважды два суслик (потому что суслик это экологично), а получают, что семь с половиной. Не то у Бликфельдт. Обнаружив в старинной сказке все предпосылки для боди-хоррора (что само по себе несложно) и сменив главную героиню с хорошей на гадкую, она — вместо того, чтобы подпасть под обаяние этого исходного сдвига и решить, что его одного достаточно для «авторского замысла», — непрестанно, в каждой сцене, усложняет и налаживает двусмысленность и сюжетных поворотов, и психологической разработки своей новоизбранной протагонистки. Без сомнения, любители и знатоки современных идеологических концепций с легкостью обнаружат их следы в «Гадкой сестре» — но ее виражи делают ее неподвластной ни одной из них вполне. Здесь не сыщется ни оправдания, ни осуждения, здесь «привилегии» не влекут моральной оценки, а стремление «соответствовать своему внутреннему миру» не обеспечивает моральной правоты, ибо в этом, казалось бы, очень, очень современном фильме, обремененном густой сенью «фемоптики» и «новой телесности», непосредственность оказывается уделом посредственностей. И когда дрожащие от злобы губы главной героини так и фонят неслышным и оглушительным закадровым how you dare, — это, вопреки всей современности здешних психологических трактовок, вовсе не дает ей карт-бланш на реванш. Логика характера, биография ущерба, паче же всего — стилистика их развертывания оказываются важнее (ибо сложнее) любых идейных построений, сколь бы справедливыми они ни числились.
© Иноекино
И в этом пункте «Гадкая сестра» Эмилии Бликфельдт выигрывает — по очкам, в последнем раунде — у «Субстанции» Корали Фаржа, с которой ее, вполне правомерно, так и тянет сопоставить. Обе блестящи, обе современны (а ведь эти два атрибута так редко встречаются вместе); обе полны дерзости и драйва; обе — боди-хорроры, трактующие тягу к нормализованной «красоте» (неотличимой от «сексуальности») как обсессивный селф-харм; обе благотворнейшим образом насыщены влияниями классической киноэстетики, конвертированными под новейшую оптику (у Фаржа это главным образом Кубрик, у Бликфельдт — много более причудливая смесь из Фульчи и Боровчика). Но там, где Фаржа (о чем в свое время довелось писать) на финишной прямой упрощает и сужает образную систему фильма во имя прозрачности авторского месседжа, Бликфельдт счастливо избегает этого соблазна. Не претендуя — в отличие от Фаржа — на всеохватность и пафосное фортиссимо финальной сборки, Бликфельдт до конца выдерживает драгоценную двусмысленность своей авторской позиции, отменяя эпатирующими телесными аттракционами не просто «любую возможность однозначной трактовки», но и любую надобность в таковой. Ее туше легче, в ее юморе меньше сарказма, в ее лирике — больше тревоги; и хотя кульминации обоих фильмов решены как «макабрический триумф аморфности», Фаржа на поле этой аморфности так и остается до последнего кадра, Бликфельдт же находит возможность вернуть своим последним кадрам пластическое изящество, преодолев буйство смерти — элегией пейзажа.
Потому что да не будет фраза о «выигрыше по очкам» расценена в том смысле, что, мол, «Гадкая сестра» «лучше». Оба фильма существуют в рамках своих национальных кинотрадиций, оба делают главные ставки на то, что в этих традициях уже более столетия является ключевым: американская «Субстанция» — на представление, скандинавская «Гадкая сестра» — на пейзаж. Все происходящее в обоих фильмах — деформации, сексуальность, обсессии зависти и влечения, — наукообразно выражаясь, «валидируется» (или, попросту, поверяется) именно этими понятиями; где для Фаржа последним экранным жестом становится «звезды смотрят на нас», Бликфельдт вводит в эпилог приблудную глумливую ворону, которая найдет себе подножный корм в любых последствиях людских безумств. И было бы глупо предпочитать один ключ другому: оба действенны, оба нужны, оба укоренены в самой природе киноизображения. Но, возможно, сегодня бликфельдтовский дает чуть больше свободы автору дать чуть больше свободы зрителю.
А сегодня не тот день, чтобы этим пренебрегать.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: © Иноекино
Заглавная иллюстрация: © Иноекино
Читайте также: