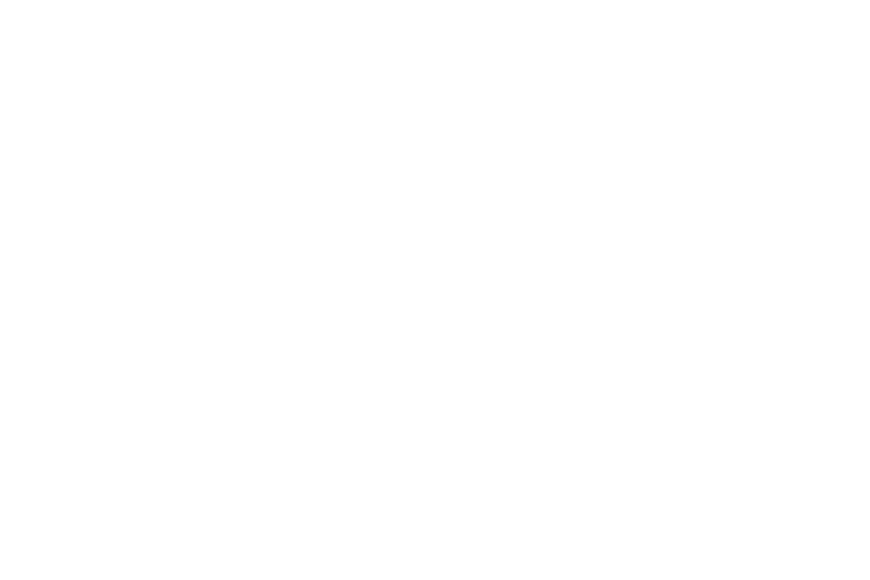| Сминается кино «Ванесса» Сэмюэла Барбера и Дмитрия Волкострелова 25 января 2025 |
Театр «Новая Опера» в Москве проводит очередной Крещенский фестиваль. Дата его открытия, 19 января, совпадает не только с православным праздником, но и с днем рождения основателя театра, дирижера Евгения Колобова. Редкие оперные названия в афише фестиваля — не только продолжение дела Колобова, но и кредо нынешнего интенданта театра Антона Гетьмана. «Ванесса» американского классика Сэмюэла Барбера (1958) стала российской премьерой и дебютом в «Новой Опере» режиссера Дмитрия Волкострелова.
«Ванесса» — почти единственное значительное событие оперного сезона, компанию ей составит разве что «Пиковая дама» в Перми. Для директора «Новой Оперы» Антона Гетьмана такой репертуарный выбор — моральная необходимость. Год назад он открыл Крещенский фестиваль российской премьерой оперы Джона Адамса «Доктор Атом», спетой историей Оппенгеймера и его разрушительного детища. Теперь нечто противоположное: никакой политики, оперный ультра-Голливуд, ад найдешь в себе самом. Адамс и Барбер, хотя понимают жанр оперы совершенно по-разному, оба требуют большой работы от исполнителей и слушателей. Популярные Верди и Чайковский требуют их не меньше, но тянут за собой такую историческую инерцию, что легко спрятаться за традициями и «традициями». В «Ванессе», несмотря на традиционность музыкального языка, прятаться не за что.
Важно, что театр подготовил премьеру почти без приглашенных исполнителей. Дирижер «Новой Оперы» Андрей Лебедев укротил большую оперу мастерски. Должного накала страстей он добился тщательной детализацией оркестра, в котором Барбер выписал множество соло и каверзных ансамблей, и паритетом в звучании оркестра и вокалистов. Последние — Марина Нерабеева, Екатерина Мирзоянц, Алексей Татаринцев, Александра Саульская-Шулятьева и вызванный из соседнего МАМТ Дмитрий Зуев — справились с материалом достойно и не без блеска, хотя очевидно, насколько такая Большая Оперища трудна для современных голосов. К тому же петь пришлось с высоты второго этажа и полностью отказавшись от внешнего актерствования — таково было режиссерское задание.
Дмитрий Волкострелов не впервые ставит оперу, хотя его имя чаще найдется рядом с фразой «постдраматический театр» и названием коллектива «театр post» — который, верим, возродится и даст новые спектакли. Два года назад было трудно представить рядом фамилии Волкострелова и Барбера. Пьесы Пряжко или Беккета, даже «Евгений Онегин» Чайковского в спектакле Урал Оперы — но какая еще «Ванесса»? В удивительные времена легче сходятся стихи и проза, лед и пламень. Антон Гетьман поступил честно и остроумно, пригласив модерниста и лакониста Волкострелова на встречу со старомодной пышноцветной мелодрамой.
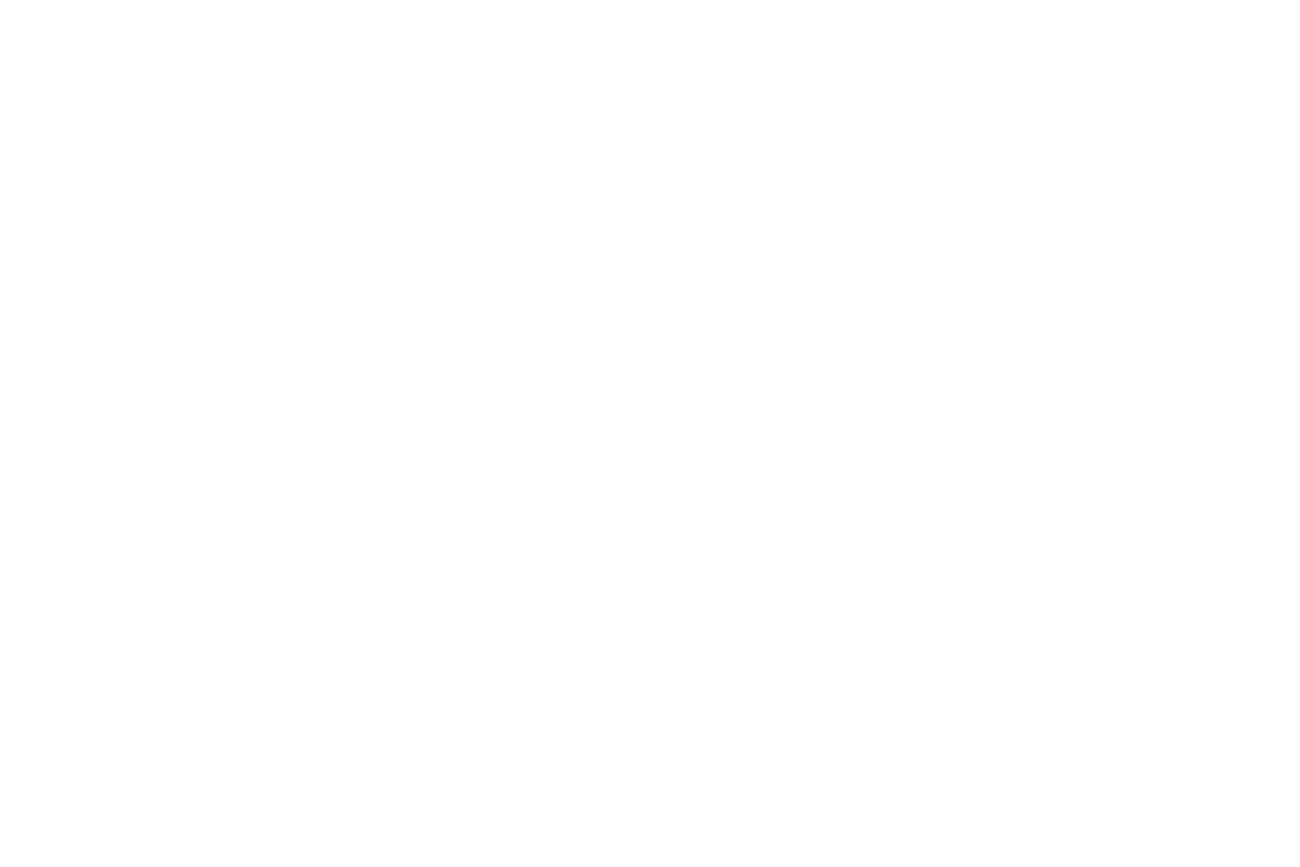
Фото: © Екатерина Христова
Заказ явно был сделан после удачной премьеры «Человеческого голоса» Пуленка и Горлинского в Перми. Хотя в обеих операх действуют брошенные женщины на грани нервного срыва, из «Ванессы» второго «Голоса» не сделать. Режиссер и не стал. Как и в Перми, он стреножил оперных солистов и основное действие вынес на видеоэкран, но теперь еще и показал процесс киносъемки — к неудовольствию зрителей, которые виртуозно умеют проживать жизнь без отрыва от гаджетов, но в театре всегда сетуют на сложность многоканального восприятия. Больше того: немая кинолента следует либретто Джан Карло Менотти, а снимается в обратном порядке эпизодов. Волкострелов не отобрал мелодраму у зрителей и у Барбера, но усложнил к ней путь и таким образом сделал ее острее — как в «Пяти препятствиях» фон Триера и Лета. Для Волкострелова меньше — значит, больше.
На киностудии идет съемочная рутина: «около 1905 года», как то указано в партитуре, даже серьезные длинные ленты снимали быстро и не целясь в вечность. Съемка идет все время, что звучит музыка: на нижнем этаже действует бессловесный, пластически скупой и точный ансамбль драматических артистов, не впервые работающих с Волкостреловым, — часть из них занята в «Закате», который летом должен вернуться в «ГЭС-2» и Рощу за ним. На съемочной площадке нет-нет и пробежит ток между киноактерами. В конце концов, это они (в лице оперных солистов) на верхнем уровне сцены смотрят раритетную киноленту «Ванесса». Около 1945 года звезды разбомбленной эпохи пытаются воскресить эту эпоху, а с нею самих себя. Теперь нельзя сказать точно, кто пережил эту странную драму, персонажи или сами киноартисты.
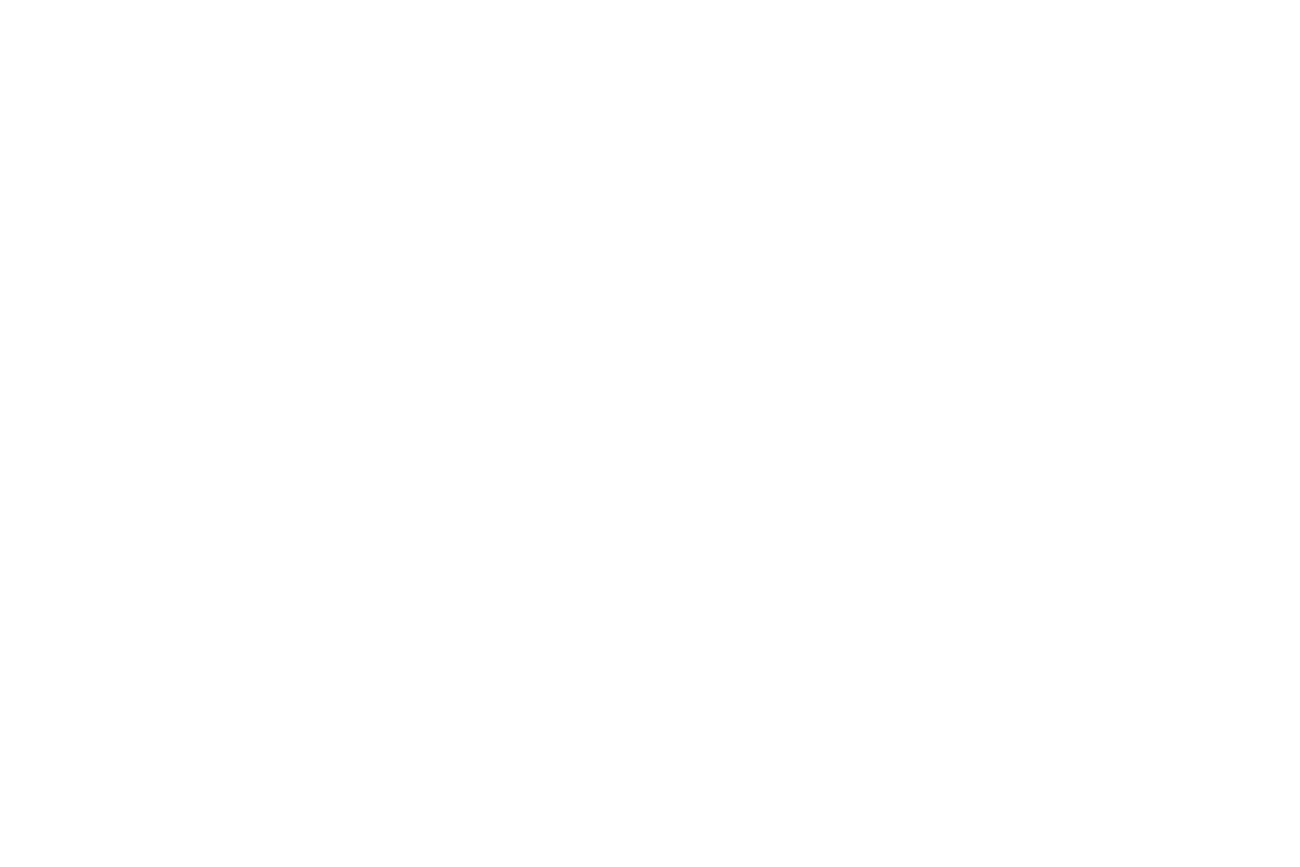
Фото: © Екатерина Христова
Фабула причудлива даже по оперным канонам: Ванесса живет в наглухо запертом замке с матерью-баронессой и племянницей, спустя много лет ожидания она встречает в доме бывшего любовника Анатоля, но приехал не тот Анатоль, а его сын, который в итоге и увозит тетку, но прежде совращает племянницу, и уже та, потеряв зачатого ребенка и веру в себя, запирается в оставленном ей замке. Композитор связал партитуру системой навязчивых лейтмотивов и кольцевой формой. Необратимое время, его остановки и его повторяемость — центральный сюжет «Ванессы», поэтому неорганичность выбранного материала театру Волкострелова оказывается мнимой.
О нелинейности времени, о том, что далекое прошлое бывает гораздо реальнее и ближе вчерашнего дня, поставлены многие его спектакли — среди них особенно важен екатеринбургский «Евгений Онегин». Там же была поднята дорогая режиссеру тема утраченной России, страны из романов или страны романов и романсов (березовый лес из спектакля «Русскiй романсъ» в Театре Наций потом разросся в «Онегине»). И в англоязычной «Ванессе» у Волкострелова возникает сильная чеховская интонация, а фигурой, связующей все уровни повествования, становится Доктор, с монологом почти как у доктора Чебутыкина из «Трех сестер», отчаянным и опустошенным. Домашний лекарь буквально спускается с верхнего уровня в киностудию, из пятидесятых в нулевые, чтобы спеть центральную арию оперы.
И финальный квинтет персонажей «Забыть, разбить» — точно бы из чеховской пьесы или написанной по ее мотивам оперы Петера Этвеша (она шла в Урал Опере, еще одна диковина с мировым реноме, как и «Ванесса»). Все прощаются: друг с другом, с утраченными иллюзиями, с жизнью. Квинтет-прощание, где время застывает в самой душераздирающей музыке — лучший эпизод спектакля. Здесь ясно, насколько хорошо поняли друг друга режиссер и дирижер-постановщик, что в современном оперном театре бывает нечасто. Здесь очевидно, сколько в спектаклях «формалиста» Волкострелова поэтического тепла и метафизики. Не то чтобы их не было раньше, теперь они обрели иное качество и силу. В этом его союзники — художник Леша Лобанов, мастер света Константин Бинкин, видеохудожник Игорь Домашкевич; в команде отчаянно не хватает лишь давней соратницы, сценографа Ксении Перетрухиной. Приняв вызов «Новой Оперы», они нашли спокойствие длинного пути — приняли оперную рутину и «рутину» как несущественное, как то, с чем бесполезно бороться манифестами и наивно понятым радикализмом.
Текст: Татьяна Розулина
Заглавная иллюстрация: © Екатерина Христова
Заглавная иллюстрация: © Екатерина Христова
Читайте также: