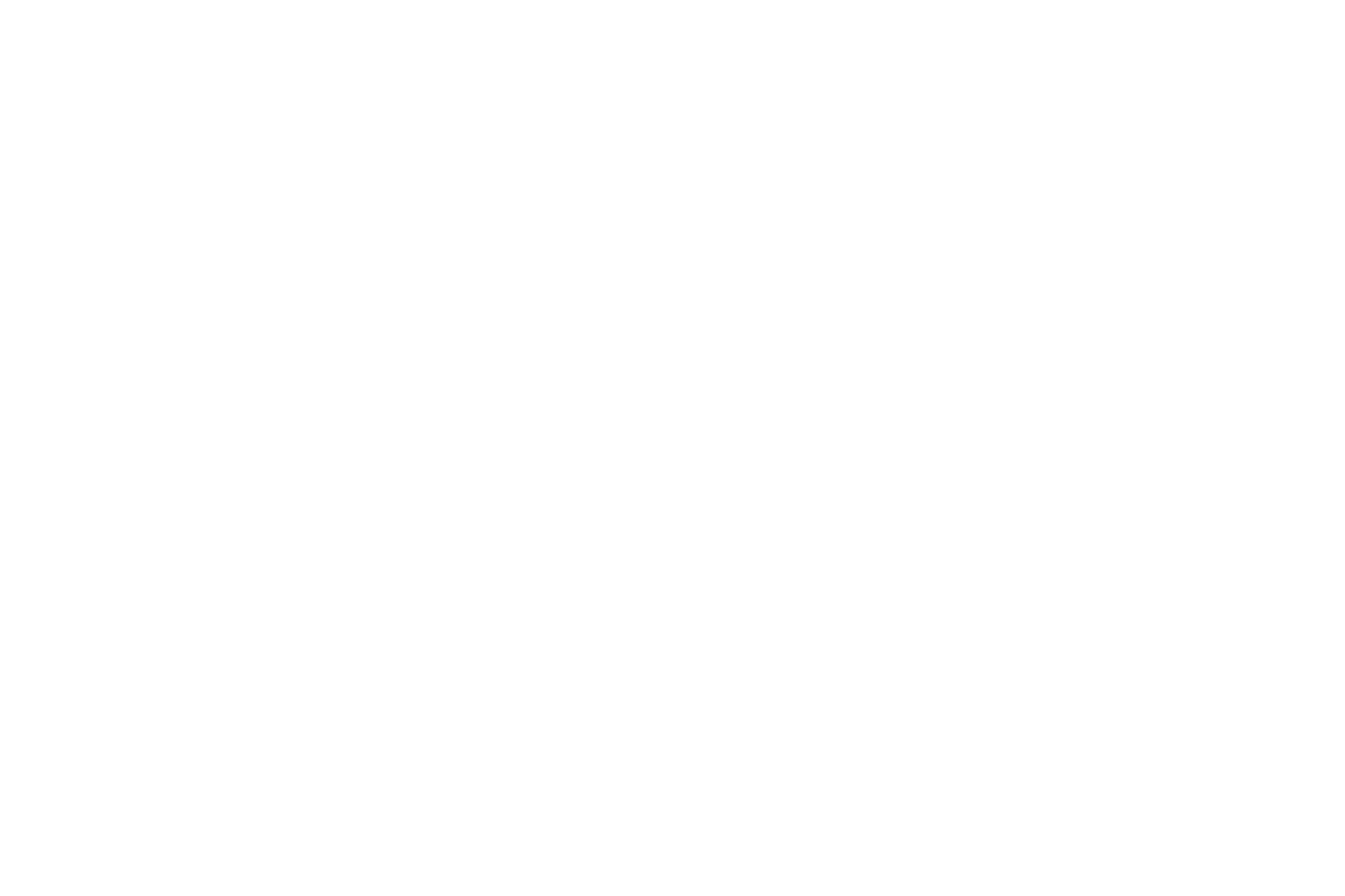Кино–2023. Часть I Пять главных фильмов года: выбор Алексея Гусева 28 декабря 2023 |
Окинуть взглядом список фильмов, прошедших по российским экранам за отчетный уходящий год, — значит вмиг ощутить себя обитателем какой-то очень высокой и давней поэзии, или давайте лучше даже так: Поэзии. Дальнее королевство приморской земли, безмерно удаленное от всех иных земель; ты бредешь под тревожным небом по полосе прибоя, и до тебя — нет, не «доносятся отголоски далеких битв и пиршеств», у отголосков хоть есть честная и ясная физическая природа, до тебя доносилось бы самое громкое и самое яркое, тут же — тебе под ноги море выносит, шурша, и кладет ошметки этих самых битв и пиршеств, прихотливо смешивая драгоценное с бросовым: гребень — с зубочисткой, надколотый кубок — с трупом сифилитика. Что там творится, за горизонтом, что за чем последовало, какие династии сменились, кого осенили пальмовой ветвью, а кто с боем добыл льва либо медведя, что, собственно говоря, праздновали и за что бились, — остается лишь гадать, взвешивая в руке очередной принесенный прибоем череп да приговаривая, как при просмотре недавней «Тихой ночи» Джона Ву: «Я знал его: человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик, а теперь…». Весь этот абзац, конечно, можно было бы свести к одному-единому слову «нерепрезентативность», ибо развалины российского кинотеатрального проката только им и описываются, но — когда и поиграть в безумного Эдгара, как не под Новый год, и где нам, вахлакам, и играется, как не на развалинах.
А потому и выстраивание итоговых «пятерок» да «десяток» не вправе претендовать на какой-либо сюжет, моделирующий общую логику кинопроцесса: слепила из того, что всплыло. Вот фильмы купленные, но не показанные, а вот — показанные, хоть и не купленные; вот те, которые чудом пробились на экраны в обход внешних санкций, а вот — те, которые не меньшим чудом обошли минкультовские санкции прокатных удостоверений; вот те, что мы смотрим украдкой, а вот — те, что мы во всеуслышание обсуждаем, но из простых соображений гигиены глазного дна не смотрим даже ненароком… «Великая ирония» лучшего нью-йоркского говоруна Вуди Аллена соседствует здесь с «Великой магией» столь же именитого итальянского говоруна Нанни Моретти; «Париж, 13-й округ» Жака Одиара и «Мое преступление» Франсуа Озона продолжают давнее соревнование своих авторов под лозунгом «кто надежнее скомпрометирует понятие “французское кино”» (в этом сезоне Одиар вырвался вперед); «Сын» Флориана Зеллера иллюстрирует фразу брехтовского персонажа «Если ты сказал “А” и видишь, что ошибся, то говорить “Б” не обязательно» (хотя умение «видеть» к сильным сторонам режиссера Зеллера — каковы бы они ни были — не относится); «Убийцы цветочной луны» Скорсезе показывают, что великим традициям, вроде американского романного повествования, не с чего выдыхаться или дряхлеть, а «Марлоу» Нила Джордана уточняет: возможно, для этого надо быть Скорсезе, а не Джорданом. Отечественный кинопроцесс моделируется отечественным кинопрокатом не менее прихотливо: так, три кряду выпущенных на экраны фильма выпускников сокуровской нальчикской мастерской («Тембот» Мастафовой, «Узлы» Хамокова и «Клетка ищет птицу» Мусаевой) по праву должны были бы составить отдельный сюжет, но Минкульт ценит твист, и «Сказка» самого Сокурова разминулась с прокатом на вираже, слетев в странноприимный кювет по фамилии Собчак. И, в конце концов, всего лишь логично, что один из лучших отечественных фильмов уходящего года, «Пациент № 1» Резо Гигиенишвили, попасть в прокат не имел ни единого шанса, — учитывая, что нас всех ждет-поджидает там грядущей весной «Онегин» пациента № 1 российской режиссерской палаты Сарика Андреасяна…
«Убийцы цветочной луны» © Apple TV / YouTube
А потому — от предлагаемой «пятерки» фильмов, что в уходящем году были спроецированы на российские экраны, не стоит ожидать ни складу, ни ладу. Какие-то из этих кубков больше надколоты, какие-то меньше, какие-то, видимо, сделаны из черепов, а иные и вовсе в более тучные годы и менее роковые минуты показались бы плошками, — и, кажется, все они избраны с разных пиров. Но, возможно, если различить этих малых избранных среди многих званых, то удастся и самим оказаться на тех пирах достойными собеседниками. Пусть даже по удаленке.
1. «Анатомия падения»
О фильме Жюстины Трие, каннском лауреате уходящего года, писать здесь уже доводилось; с тех пор он обзавелся еще целым ворохом почетных титулов, среди прочего, будучи признан лучшим европейским фильмом года. Мнимо простодушный по сюжету и еще более простодушный (и еще более мнимо) по режиссерским решениям, он, пожалуй, и в одиночку — несмотря все сказанное выше — способен обеспечить отечественному зрителю ту самую «репрезентативность» представлений о мировом процессе. Не потому, что лауреат, а потому, что осознанно и последовательно предъявляет ту принципиальную зыбкость и ненадежность истины, которая ныне, с каждым годом все более властно, формирует магистральный гуманитарный тренд в глобальном масштабе, — и у которой большинство иных фильмов оказываются не более чем в заложниках. В самом точном, самом кинематографическом смысле слова «Анатомия падения» — возможно, самый документальный фильм начала 2020-х; он — документ. Когда-нибудь нас будут пытаться понять по нему.
О фильме Жюстины Трие, каннском лауреате уходящего года, писать здесь уже доводилось; с тех пор он обзавелся еще целым ворохом почетных титулов, среди прочего, будучи признан лучшим европейским фильмом года. Мнимо простодушный по сюжету и еще более простодушный (и еще более мнимо) по режиссерским решениям, он, пожалуй, и в одиночку — несмотря все сказанное выше — способен обеспечить отечественному зрителю ту самую «репрезентативность» представлений о мировом процессе. Не потому, что лауреат, а потому, что осознанно и последовательно предъявляет ту принципиальную зыбкость и ненадежность истины, которая ныне, с каждым годом все более властно, формирует магистральный гуманитарный тренд в глобальном масштабе, — и у которой большинство иных фильмов оказываются не более чем в заложниках. В самом точном, самом кинематографическом смысле слова «Анатомия падения» — возможно, самый документальный фильм начала 2020-х; он — документ. Когда-нибудь нас будут пытаться понять по нему.
2. «Гипнотик»
«Матрица» здорового человека. О ненадежности истины (и вообще реальности) он говорит едва ли меньше, чем фильм Трие, — но поскольку поставил его давно уже великий Роберт Родригес, то и ответственность за тотальную иллюзорность мировосприятия здесь аккуратно переводится на кинематограф как таковой. Подмена персонажей, манипулятивность флэшбеков, декорация, увиденная как декорация, ребенок как высший судия, — у этого лихого экшна, умело прикидывающегося грубоватым, хоть и виртуозным пастишем (и даже заимствующего для этого Бена Аффлека прямиком из «Часа расплаты» Джона Ву 20-летней давности), сходств с бравирующей своей тонкостью «Анатомией падения» куда больше, чем может показаться на первую дюжину взглядов. Впрочем, что Трие, что Родригес не зря настаивают: первая дюжина взглядов — вообще не в счет.
«Матрица» здорового человека. О ненадежности истины (и вообще реальности) он говорит едва ли меньше, чем фильм Трие, — но поскольку поставил его давно уже великий Роберт Родригес, то и ответственность за тотальную иллюзорность мировосприятия здесь аккуратно переводится на кинематограф как таковой. Подмена персонажей, манипулятивность флэшбеков, декорация, увиденная как декорация, ребенок как высший судия, — у этого лихого экшна, умело прикидывающегося грубоватым, хоть и виртуозным пастишем (и даже заимствующего для этого Бена Аффлека прямиком из «Часа расплаты» Джона Ву 20-летней давности), сходств с бравирующей своей тонкостью «Анатомией падения» куда больше, чем может показаться на первую дюжину взглядов. Впрочем, что Трие, что Родригес не зря настаивают: первая дюжина взглядов — вообще не в счет.
«Гипнотик» © «Централ Партнершип»
3. «Молодой папа» («Падре Пио»)
Об этом фильме здесь уже тоже было написано, и добавить по существу особо нечего: один из главных бунтарей американских 90-х, мрачно и упоенно подрывавший тогда все нормы нарратива и морали (а дебютировавший когда-то и вовсе опусом под названием «9 жизней влажной киски»), в своем последнем фильме умудрился скрестить гулкий и злой пафос итальянского политического кино в духе ранних Тавиани или Петри с непреклонно деликатным левокатолическим минимализмом в духе Брессона или Пиала. Прокатчики, не иначе как в состоянии крайнего (и такого по-человечески понятного) стресса перекрестившие фильм Феррары в тезки недавнему нарядному детищу Соррентино, оказали этому последнему, надеюсь, медвежью услугу: у поклонников модного итальянского модника появилась неожиданная возможность увидеть, как должно выглядеть настоящее кино. И по-настоящему великая красота.
Об этом фильме здесь уже тоже было написано, и добавить по существу особо нечего: один из главных бунтарей американских 90-х, мрачно и упоенно подрывавший тогда все нормы нарратива и морали (а дебютировавший когда-то и вовсе опусом под названием «9 жизней влажной киски»), в своем последнем фильме умудрился скрестить гулкий и злой пафос итальянского политического кино в духе ранних Тавиани или Петри с непреклонно деликатным левокатолическим минимализмом в духе Брессона или Пиала. Прокатчики, не иначе как в состоянии крайнего (и такого по-человечески понятного) стресса перекрестившие фильм Феррары в тезки недавнему нарядному детищу Соррентино, оказали этому последнему, надеюсь, медвежью услугу: у поклонников модного итальянского модника появилась неожиданная возможность увидеть, как должно выглядеть настоящее кино. И по-настоящему великая красота.
4. «Дворец»
Последний фильм 90-летнего Романа Поланского, который — после каллиграфического «Я обвиняю» — поверг в недоумение самых преданных поклонников мастера, всех же остальных, самое меньшее, изрядно раздразнил и раздражил: разухабистый, наглый, безвкусный, да попросту дурной на всю камеру. Как ни мало это описание фильма походит на его автора, две общих черты у них все же есть, и именно они больше всего и злят: им плевать на любые правила и установления, и они живые. Серия идиотских скетчей, рядом с которыми и БашОрг покажется Монти-Пайтоном, вопреки любому вероятию и расчету заставляет саму материю кино пульсировать в том особом, рваном и неукротимом ритме, секрет которого с 1970-х годов казался безвозвратно утраченным. «Дворец», по-видимому, займет в наследии Поланского то же место, которое «Месть» заняла в наследии его учителя Вайды (тому, впрочем, было лишь 76): фильма-трикстера, беззаконного бесенка, внезапно выскочившего невесть откуда и пустившегося в пляс по наущению маститого автора, который, на склоне лет, уже не умеет ни бояться, ни стыдиться и который белизну своих седин, пусть на правах каламбура, расценивает как карт-бланш. Польская культура давно уже приучила окружающий ее мир к своему умению торжественно громыхать, сосредоточенно задумываться или рвать душу крестными занозами; но никто не может позволить себе не пригнуться (Виткаци и Масловска свидетели), когда поляк однажды начинает шутить.
Последний фильм 90-летнего Романа Поланского, который — после каллиграфического «Я обвиняю» — поверг в недоумение самых преданных поклонников мастера, всех же остальных, самое меньшее, изрядно раздразнил и раздражил: разухабистый, наглый, безвкусный, да попросту дурной на всю камеру. Как ни мало это описание фильма походит на его автора, две общих черты у них все же есть, и именно они больше всего и злят: им плевать на любые правила и установления, и они живые. Серия идиотских скетчей, рядом с которыми и БашОрг покажется Монти-Пайтоном, вопреки любому вероятию и расчету заставляет саму материю кино пульсировать в том особом, рваном и неукротимом ритме, секрет которого с 1970-х годов казался безвозвратно утраченным. «Дворец», по-видимому, займет в наследии Поланского то же место, которое «Месть» заняла в наследии его учителя Вайды (тому, впрочем, было лишь 76): фильма-трикстера, беззаконного бесенка, внезапно выскочившего невесть откуда и пустившегося в пляс по наущению маститого автора, который, на склоне лет, уже не умеет ни бояться, ни стыдиться и который белизну своих седин, пусть на правах каламбура, расценивает как карт-бланш. Польская культура давно уже приучила окружающий ее мир к своему умению торжественно громыхать, сосредоточенно задумываться или рвать душу крестными занозами; но никто не может позволить себе не пригнуться (Виткаци и Масловска свидетели), когда поляк однажды начинает шутить.
«Молодой папа» © Christian Mantuano/Gravitas Ventures
5. «Тень Караваджо»
В иные годы у фильма в постановке Микеле Плачидо вряд ли был бы шанс оказаться хоть в пятерке, хоть в какой десятке: актер неглупый и опытный (наш славный комиссар Катани, если что, начинал Калибаном у великого Стрелера), как режиссер он всегда был, самое большее, настойчив и вдумчив. В «Тенях Караваджо», однако, — сквозь мертвенно-гладкий формат современного европейского историко-костюмного фильма и сквозь положенный ему пафос дешевой мелодрамы, неряшливо и кокетливо задрапированной под еще более дешевое раздумье-о-природе-творчества, — неожиданно и убедительно прорывается та мускулистая дикость, которую сам Плачидо так убедительно играл в «Незнакомке» Торнаторе, с которой один из героев его «Великой мечты» декламировал Маяковского, глядя на карабинеров на плацу, — и которой прежде режиссуре Плачидо так ощутимо не хватало. Пабло Неруда однажды написал: «В доме поэзии остается лишь то, что написано кровью, и впитается оно прямо в кровь»; именно так Плачидо трактует Караваджо, точнее — именно этому большой художник Караваджо умудрился научить в этом фильме небольшого художника Плачидо. Вероятно, это не тот урок, который киноискусство 2023-го года выпуска хотело бы получить. Но еще более вероятно, что иных уроков в нашем расписании пока не значится. Этот — последний. И, видимо, как он ни страшен, придется-таки его выучить.
В иные годы у фильма в постановке Микеле Плачидо вряд ли был бы шанс оказаться хоть в пятерке, хоть в какой десятке: актер неглупый и опытный (наш славный комиссар Катани, если что, начинал Калибаном у великого Стрелера), как режиссер он всегда был, самое большее, настойчив и вдумчив. В «Тенях Караваджо», однако, — сквозь мертвенно-гладкий формат современного европейского историко-костюмного фильма и сквозь положенный ему пафос дешевой мелодрамы, неряшливо и кокетливо задрапированной под еще более дешевое раздумье-о-природе-творчества, — неожиданно и убедительно прорывается та мускулистая дикость, которую сам Плачидо так убедительно играл в «Незнакомке» Торнаторе, с которой один из героев его «Великой мечты» декламировал Маяковского, глядя на карабинеров на плацу, — и которой прежде режиссуре Плачидо так ощутимо не хватало. Пабло Неруда однажды написал: «В доме поэзии остается лишь то, что написано кровью, и впитается оно прямо в кровь»; именно так Плачидо трактует Караваджо, точнее — именно этому большой художник Караваджо умудрился научить в этом фильме небольшого художника Плачидо. Вероятно, это не тот урок, который киноискусство 2023-го года выпуска хотело бы получить. Но еще более вероятно, что иных уроков в нашем расписании пока не значится. Этот — последний. И, видимо, как он ни страшен, придется-таки его выучить.
Если мы хотим после уроков — все еще остаться.
Текст: Алексей Гусев
Заглавная иллюстрация: «Дворец» © Venice Film Festival
Заглавная иллюстрация: «Дворец» © Venice Film Festival
Читайте также: